— Да нет, ребята, это раньше данный ковёр был Вани, а ещё точнее — отца его, Кощея, да только потом Кощей его змею Тиграну Горынычу подарил. Верно ведь, Ваня?
Иван кивнул опять — такая, видать, ему в этой беседе роль кивательная выдалась.
— А вы этот ковёр у Горыныча увели, — режет Горшеня. — Украли, стало быть.
— Вот те канифоль! — разводит руками Аким-хмурый. — Дык ежели б мы этот ковёр у змея не увели, нас бы сейчас и в живых бы не было! Тигран Горыныч съесть нас собирался!
— Нас с Ваней он тоже съесть собирался, — возражает Горшеня, — однако ж мы с ним миром разошлись, да ещё и много доброго из той встречи вынесли.
Сильвестр Семионов на тот резон говорит:
— Так, может, ты и с никвизиторами договоришься мирно-полюбовно? Чтобы и они нас, простых людей, жечь да резать перестали?
Горшеня рот захлопнул. Внутри него кипяток клокочет, а вырваться наружу ему нечем — слов подходящих против Семионовой аргументации не находится. Насупился Горшеня.
— А что, — говорит, — если на то пошло, то и это дело, я думаю, не зазорное. Никвизиторы — тоже люди, с ними тоже можно по-человечески разговаривать.
— В принципе-то оно можно, — кивает Аким, — коли б только кляпы да палаческие щипцы тому разговору не мешали. Неудобно, понимаешь, на пыточном столе о добром разговаривать.
Горшеня снова распалился.
— Да потому что не пробовал никто! — говорит. — Сразу-то они, небось, никому щипцы в рот не засовывают, можно успеть пару нужных слов сказать!
— Да ты разве с ними давеча разговора не имел? — спрашивает с издёвкой Аким. — Что ж ты им там, в темнице, не разъяснил всю свою хрестоматию?
— У меня в тот момент жизни нужных ощущений не было, — объясняет Горшеня. — Я тогда не знал ещё, что да как им втолковывать надо, дурака с ними валял.
— А сейчас кого валяешь? — дальше спрашивает Аким. — Умного?
Замолчал Горшеня, замкнулся.
А Тимофей-рассказчик ему спокойно так предлагает:
— Ты бы и вправду шёл бы к ним, к никвизиторам, чем тут перед нами кобениться. Они тебя, наверное, в главные советчики произведут, каши тебе отвалят — не нашего болотного посола, а из главного королевского котла, с мермеладом да с изюмчиком.
— Ну вот что…
Это до сей поры молчавший Евсей-старшой встал, травину изо рта выплюнул, бороду пригладил, рубаху одёрнул. Видать по выправке — тоже в рекрутчине себя достаточно гробил мужик. Стоят Евсей и Горшеня друг против друга — два одновозрастных солдата, два обветренных ковыля. Остальные Семионы притихли, ждут, какой вескости слово молвит их старший брат. А тот сосредоточился, взгляд на Горшене сцентровал и говорит:
— Хватит, братцы, слова месить, обиды завязывать. Что ты, добрый человече Горшеня, скажешь, ежели мы этот ковёр змею тому лютому возвернём в целости и сохранности?
— Что скажу… — Горшеня такого разворота не ожидал. Пребывал он в надёжной боевой стойке, любой лобовой удар отразить был готов, а тут его вроде как и не ударили, а по плечу потрепали. Не сразу он колючки свои убрал и только после раздумья, когда в голове кое-что в обратную сторону прокрутилось, выбубнил: — Что скажу? А то и скажу: вернёте ковёр — правильно сделаете.
Евсей-старшой бороду свою погладил:
— Ну спасибо, тебе, добрый человече, — говорит, — благословил.
И не понять — издевается он или искренне благодарен. Ничего больше не прибавил, пошёл прочь от костра и за ним все остальные разбредаться стали. Мол, закончен ужин. И всё молчком. Только Тимофей-рассказчик, мимо Горшени проходя, говорит негромко:
— Мы-то ковёр возвернём — слово. А вот ты — с никвизиторами… Смогёшь ли?
И отошёл. Горшеня с Иваном вдвоём остались у костра.
30. Заплечная справедливость
Иван после паузы спрашивает:
— Тебя, Горшеня, какие мухи покусали? В тебя, может, на том свете прививку какую ввели? Или что? Уж не знаю, чего ещё предположить…
Горшеня на него глянул замученно.
— Погоди ты, Иван, с мухами своими, не трогай меня пока…
И тоже прочь от костра двинулся. Отошёл в ельничек, паузу взял — надо ему с самим собой посоветоваться, с совестью своей посовещаться. Какой-то на душе его дискомфорт непонятного происхождения! Раньше-то он, бывало, и с лесными разбойниками обед делил, не брезговал, и со всякими дикарями пляски вокруг костров водил, трубку мира с кем только не выкуривал безо всякой оглядки, а сейчас — вроде всего лишь с беглыми ребятами сидит, а кусок в рот не лезет. Чувствует почему-то, что нельзя ему больше с такими отребьями якшаться, не для него это общество. Ему теперь во всём абсолютной честности придерживаться надо, все принципы соблюдать, никаких не позволять душе поблажек. С него теперь иной спрос. Оттого и переживает Горшеня. Склонился к ёлочкам — им одним рассказывает, какие у него в душе творятся конфликты.
— Эх, ёлочки мои, ельчонки! — говорит. — Зеленушки вы, молодушки! И нога моя не ноет, и в животе рези прошли, а жить мне будто труднее стало! И что такое меня грызёт-разгрызает — даже вам объяснить не могу… Был я, ёлочки, долгое время один-одинёшенек, бродил по свету без цели, без маршрута и поступал по наитию! И не было тому причин, чтобы вдруг иначе стало. А теперь я — снова вроде как с семьёй человек, с местом приписки. И снова есть у меня резон в определённую сторону идти, и поступки мои, стало быть, не по наитию происходят, а в строгом подчинении у одной заветной цели! Мне ведь, ельчоночки мои, уже считай место в Раю определили, к Аннушке поближе, а я тут со всяческими нехристями беседы развожу, их лихим настроением потакаю! Эдак быстро меня из Рая пинком под зад высадят. Чур меня! — схватился за голову, руками её потряс. — Эх, слабый я человечек, неумёха житейская! И это мне-то, недоумку, теперь во всём безропотную честность блюсти надобно, по самой дотошной совестливости поступать! Ой, Аннушка, смогу ли я, выдержу ли!..
Ещё о чём-то посокрушался Горшеня и направился из ельничка к колокольной землянке, где ему давеча место определили. Пришёл да и принялся — как бы невзначай — сидор свой собирать. Вроде и не прячется ни от кого, а вроде и сам по себе действует, что-то на уме держит скрытное. Семионы тот манёвр заприметили, да виду подавать не стали, сами отворотились от Горшени. Иван — простая душа — самый последний в ситуацию вник, только когда товарищ его уже тугой-претугой узел на сидоровой шее затянул.
Подошёл Иван к Горшене, посмотрел на него удивлённо и спрашивает в самый лоб:
— Ну что ты опять маешься, Горшеня? Надорвался, что ли?
— Ничего я не надорвался, — говорит тот.
— А чего манатки собрал? Собрался куда?
Горшеня голову набок сбекренил, не особо дружелюбным тоном отвечает:
— Надо мне, Ванюша, по делам пройтися.
— Не пойму я тебя что-то, — сокрушается Иван. — Не узнаю тебя, какой-то ты другой стал…
— Ты тоже другой стал, — сетует Горшеня. — Раньше спешил-торопился, отца своего выручать рвался, даже темница не помеха была, а тепереча засел на одном месте и про папашу думать позабыл.
— Да ты что?! — изумился Иван. — Я ж потому задержался, что тебя, Горшеня, выручал!
— Вот и выручил, вот и ступай далее. А то, я смотрю, приглядел ты себе долю поинтереснее.
Иван покраснел — аж вспыхнул: обожгла его обида несправедливая. Такого он от друга не ожидал. Вынул Ваня из-за пазухи Горшенину портянку с чертежом.
— На, — говорит строго, — спасибо, Горшенюшка, помог! Дальше я как-нибудь сам со своими делами справлюсь, у тебя советов да подмог просить больше не буду!
— Правильно, Ваня, — кривится лицом Горшеня, — у тебя ж теперь другие есть помощники да помощницы. Смотри только, как бы они тебя не обмогли до нитки.
Иван осерчал не на шутку. Был бы на Горшенином месте кто другой, Иван давно бы уже кулак в камень собрал да по лбу бы ему треснул, а с Горшеней удерживается; мало того — нет в нём ни капли озлобления, есть одна только жгучая досада.
— Как у тебя язык-то поворачивается? — спрашивает он. — Они ведь спасали тебя!
А Горшеня замялся весь, что кулёк тряпичный, отвернулся от Ивана и давай сидор на плечи напяливать; а портянку, вместо того чтобы на ногу намотать, тоже почему-то в мешок сунул — нервничает. Сквозь зубы процедил Ивану:
— Мне от таких спасателей спасения не надо — чтоб потом всю жизнь понукали! Я сам себя спасти в состоянии.
Иван головой покачал, вздохнул многопонятливо.
— Стало быть, сдаваться идёшь? Думаешь, предъявишь портянки свои белоснежные, помашешь там ими, как флажком, — тебя и примут, к самовару усадят. Блюдечко дадут, да?
— Что ты, Иван, к портянкам моим привязался! Ни при чём они здесь! Вовсе не сдаваться я иду, а диалог наводить!
Тут Иван не выдержал, схватил друга за руку, встряхнул слегка, развернул его лицом к своему лицу.
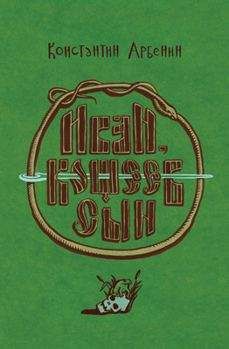




![Ульяна Соболева - Пусть меня осудят...[СИ]](https://cdn.my-library.info/books/4010/4010.jpg)