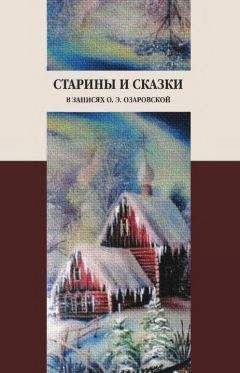— Мне не деньги нужны, а сын нужен.
— Мама, пожалей меня! У меня жона в Англии, трое детоцек…
— А присегнешь на їкону, што на будушшу вёсну всех привезешь?
У часнова їкона была, он присегнул.
И, действительно, все семейство привез.
Корабь две недели пшоницей грузитца. Ну што две недели? Как одна минуточка пролетели. Надо расставатца. Она и говорит:
— Как я без сына жила, оставь мне теперь стартова внука. Весной опять все приежжайте.
Он оставил. На следуюшшую весну она стала присматривать, кавово теперь бы ей внука оставить, а сын говорит:
— Мама! Да поедем с нами! Посмотришь, как у нас в Англии живут…
Она и поехала. Да там и осталась. Говорят, очень ей в Англии пондравилось.
Этот рассказ мальчуганы, набравшиеся вокруг холмика, слушали, раскрыв рты, и каждый с молодцеватым и удалым выражением думал: вот, мол, я какой — мать не признал. Но потом они обмякли, притихли и насторожились. Помор дрогнувшим и рвущимся голосом продолжал.
Три года тому уж. Был я на заработках в Архангельске и собралса осенью домой, да последний рейс пропустил. А как пропустил? Загулял и все деньги пропил.
И билет был, дак и ево пропил. Осталса в Архангельске.
И захотел маму видеть. Такая охота маму повидать, што были бы крылья, так на крыльях бы полетел! Заработал маленько, взял да и пошол пешой. Сколько это верст будет, пошшитай-ко! Летним берегом пошол. Каки оставалис деньги, все приел. Морозы ведь уж. Иду гододной, а все маму в мыслях держу. Близко уж Сорока, уж стал из силы выходить. Там знакомець жил. Я зашол в дом, на ево кровать повалилса. Хозейка пришла, видит, спит-храпит на хозейской кровати незнаемой человек, испугалас. Однако муж в скорости пришол:
— Какой это проходяга? Это Олександр Останин! Не тронь! Пусть спит!
Ну, проснулса я, напоїли-накормили.
— Што же ты, говорит, горной дорогой идешь? Какая такая нужда?
— Маму охота повидать.
Он мне три рубля дал. Немного я тут на лошади подъехал, а там опять побежал. Уж недалеко. И пришол в самую минуточку: мама помирать стала и все меня звала. Все же застал ее.
Все смолкли. Московка вопросительно взглянула на Кулоянина, но он продолжал угрюмо вязать петли. Махонька выручила.
Был-жил царь; у этого царя была жена молода и была у его мачеха. Сколько он жил с женой, и жена стала беременна и родила, а он выбыл куда-то не надолго время. Родила два мальцика. Она намаялась и уснула, а мачеха была зла, подкупила солдата:
— Вались к ей на кровать, брюки-ти верхни сдерни, вались в одних почтаниках.
Он так и сделал. Она донесла царю:
— Вишь у тебя жена, не успела родить, а спит с другом.
Царь схватил саблю, солдата сказнил этого и собрал собранье: как жену, куда девать, — дети незаконны.
Для людей она была милослива, добра; люди ей жалеют, сказали:
— Если они незаконны, дак закопать ей с детьми на полгода. Если незаконны, дак погибнут.
Ну и спустили їх в погреб.
Жили они полгода и выкопали їх на верьх. Ну, эти дети хороши прехорошеньки, как налиты чем, полны.
И ползают по полу, у царя, у башмаков пряжки шшиплют.
Он не замог терпеть, ногами стоптал с глаз.
Отвезли ей в цисто поле: поди там, куда знаешь.
Посадила одного мальцика по праву руку, другого на леву и пошла. Шла, шла, приустала. День был солнешной, теплой, повалилась с детями и уснула: один на правой руки, другой на левой. С левой-то руки прибежала львиця и унесла мальцика. Она разбудилась: мальцика-то у ней нету. Вот тебе жалко, тут и зажал ела и походила, походила, увидала в пещоре лежит львиця и лапками тешит мальцика; наносила яблоков, всего и грабит, грабит лапками, тешит, веселит его.
Мать вышла на угор, перекрестилась:
— Слава богу, мое дитятко не погинет!
И сама пошла с одним. Приходит в деревню. У старицка и старушки попросилась ноцевать. Ноцку ноцевала, и другу ноцевала и понравилась эта молодиця їм.
— Живи, молодиця, у нас ты, рости сына; у нас детей нет, станет ростить, дак будет сын, хлебы будут.
Скольки-ле время прошло — сын стал годов петнадцати, а старик был раньше боhатырь. У его в комнаты были складены латы булатные.
Этот сынок ходит, оденет латы булатные и маширует там.
Старушка эта подсмотрела его, сказала старику:
— Это нам не хлебы, этот сынок. Он одел латы булатные и маширует.
— Как тут не хлебы? Нам эти самые тут и хлебы.
Време идет, этот сынок — подходит ему двадцать лет. У этого царя сделалась война.
Он разослал везде бумаги, вот требовать на войны.
Этот сын средилсе на войну. Стал просить у дедушка, у бабушки блаословенья.
Они поплакали, блаословили и спустили его.
Он на судно и отправилсе. Идет это судно морем, увидели на берегу человек нагой.
Бросили ему поштаники. Он поворочял, поворочял и стал надевать. Бросили рубашку ему, — он тоже поворочял, поворочял, надевать стал рубашку.
Потом они стали к берегу приставать. Пристали к берегу. Этого целовека стали їмать, он и зеревел. Львиця и подбежала, тут и есь. Стала людей забирать, горячице стала, а он стал ей унимать. Ну его на судно повели. Львицю бы и не взели, она за їм след, он ее приглашат, люди и не посмели ей оставить.
Они сошлись на судне, и вот брат брату рассказал: «ты мне брат!» Научили его говорить по-русьски.
И пришли в осударьсво. Стали срежаться воевать в чисто поле с противником, и поехали, отправились: один на кони, а другой на львици. Один брат едет по праву руку на кони — народ улицами валитце. По леву руку львиця кинетця — так улицей с переулком, втрое валит народ. И всех перебили и отправились на пир к царю. Тут царь принимает воїнов, ужинает.
Они из застолья вышли, да и в ноги пали.
— Батюшко — мы тебе сыновья. Ковда вы нас отвезли в цисто поле, одного из нас воспитывала львиця, а другой — жил у дедушка с бабушкой и мати также.
А бабка злая слушает.
Он їх зашеїл, в уста поцеловал:
— Дети мои возлюбленные! Где наша бабушка? Мы на одну ногу наступим, другу разорвем.
А бабушка уж в петлю полезла да задавилась.
Московка пошепталась с Махонькой, так просияла и запела.
Махонька закончила эту древнюю былину, которую она одна знала во всей стране,[75] а Скоморох прерывал пенье заливистым смехом.
Кулоянин заметил:
— Ты бы замест смеха Вавиле молился: твой покровитель.
— Даже їконы еговой не живет!
— Нет, живё.
— А ты видал?
— Видал!
У Московки, что называется, в зобу дыханье сперло. Хочется спросить, а страшно: вдруг опять носырей назовет. Не вытерпела:
— А hде видал? А какая она?
Дед строго посмотрел, помолчал и милостиво ответил:
— Недалеко от нас Онуфриевы Кельї были. Етот скит Александр Третей розорил. У нас скитница оттуда жила и їкону ету оставила. Хороша. Писана по старому правилу. Вьюноша Вавило воссел, в руках гусли, и воспеват и возыгрыват. Он играет-то в Киеви, а на выигрыш берет в Цари-гради. Для скоморохов полезна їкона.
— Дедушко, рассказал бы ты каку-ле сказку про мать!
— Матери разны бывают. Бывают и хуже мачехи. Вот расскажу…
Сменил гнев на милость и рассказал.
Не в каком царсви, не в каком осударсви, а именно в том, в котором мы живет, жили были два брата. Один жил боhато, у его была лавка, он торговал, а другой жил бедно, бился, бился. Дошли до того, што завтре детем їсь нечего дать.
Жона говорит: сходи на заре к свешшенику: попроси у его хлеба.
Он пошол, ешше тёмно, свешенник спит, и не посмел он заколотитьсе, пошел домой.
Идет мимо гумнишша и слышит, как два роботника заспорили, он стал слушать. Стал слушать, а ето спорят Талань да Учась. Учась говорит:
— Што ты, говорит, над своїм рабом сделала? Што он так бьетсе, и довела его до того, што детем и їсь нечего дать сегодня.
— А ето за то, што он бедным не внимает, над старыма смиется.
Вот пришел он домой, жона спрашивает:
— Ну, што, достал хлеба?
— Нет, не посмел заколотиться, поманя пойду.
А сам задумался, как ето он бедным не внимал и над старыма надсмиялсе? «Теперь уж таков не буду!» Вышел он из дому, а под ноги ему Талань и порснула. Он взял ее, в кладовушку занес и на латку посадил. Сходил к свешшенику: опеть у того ешше темно — спят. Вернулся в кладовушку, смотрит: а Талань кругом златинками обложилась. Он взял одну златинку и говорит жоны:
— Я пойду у брата куль муки куплю.
— Да што ты? Откуль у тебя столько денег?
Он пошел, подал брату златинку, — он ему и куль муки, и круп и всего надавал, што и не унести, а на лошади нать везти.
Привез домой и говорит: