А чудища, которые поменьше, тем временем и вправду засыпать стали — видать, и на них кошачья учёность дремоту нагнала. Стали они на дно убулькивать.
— Ага! — кряхтит Иван, — Допрыгались, фрикадельки! — и опять Горшеню ногой тревожит.
Вот уже все осьминоги пропали в свекольной пучине, только тот зубастый айсберг всё торчит торчком, никак заснуть не может. Глаза у него уже поволокой покрылись, рот в зевке Иван еле удерживает, а чудовище всё борется со сном, всё щупальцами вокруг себя бурлит. На пятой странице всё же не выдержала гора — закрыла сначала глаза, потом пасть захлопнула и медленно стала в борщевую пучину уходить. И вот уже только жирное пятно на поверхности осталось.
Иван так и рухнул на колени, хотел тут же и лечь, только смотрит: Горшеня уже, оказывается, его опередил: прилёг на укропные стебли и храпит носом в книгу. Ваня тогда себя пересилил, вынул затычки из ушей, растеребил Горшеню.
— Давай, — говорит, — брат Горшенюшка, хоть руками, что ли, грести — до бережка самая малость осталась! Уснём в открытом борще — погибнем! — и принялся месить горяченную гущу своими ладонями — к берегу подгребать.
Горшеня в себя пришёл на мгновение, потянул руку, чтобы тоже гребок сделать, да и упёрся пальцами во что-то твёрдое.
— Кажись, земля, Ваня! — хрипит он пересохшим от сна ртом. — Земля, Иван!
— Знамо, земля, — отвечает Иван обессиленно. — Приплыли, брат. Спасибо Коту Учёному!
Выползли на твердь. Иван рухнул, руки свои ошпаренные в землю укапывать стал, чтобы не ныли, да на том и утерял сознание. Горшеня из ушей укропное пюре выцарапал и тоже возле Ивана брякнулся на спину. И так крепко их борщ умотал, что даже на храп сил не осталось.
Иван открыл глаза и ничего не видит — темно перед ним. Чувствует только, что лежит на мягком, а руки прямо по локоть в то мягкое втиснуты. Понюхал землю — да это же хлеб! Вынул руки, ковырнул пальцем, попробовал на зубок — так и есть.
— Горшеня, проснись, брат, — толкает Иван друга в спину. — Хлебца хочешь свеженького?
А Горшеня лежит пластом, руки раскинул компасом, в одной у него сидор зажат, в другой — фолиант чудесный. В волосах у Горшени капустные обрезки, а сам он весь багрового свекольного цвета. Перевернулся с боку на спину, продрал глаза.
— Кто это? — спрашивает.
А Иван в ту сторону и не смотрел, куда Горшеня-то глядит. А как только голову повернул, так у него кусок хлеба в горле скобой встал. Увидел он, что прямо над ними высится огромная жаба — ростом приблизительно с одноэтажную усадебку; рот у неё до ушей, самих ушей нет, а зоб тихо колышется, как простыня на бельевой верёвке.
— Вот она, наша царственная анфибия! — говорит Горшеня вполголоса после большой ознакомительной паузы.
Переглянулись молча, со знанием дела. Иван опять на жабу взгляд перевёл.
— Ишь ты, откормилась на бесплатных-то харчах, даже пошевелиться не может, — и как бы исподтишка грозится: — Ты габариты-то свои пригаси, чего уставилась!
— Это ты зря, Иван, анфибию обижаешь, — стыдит его Горшеня вслух. — Очень она даже красивая. Смотри, какие глаза у неё умные — как у лошади.
Встал он, а за ним и Иван с земли поднялся, руки свои обваренные болезненно почёсывает. Поклонились хозяйке. Горшеня говорит:
— Здравствуй, государыня жаба. Не обижайся на друга моего, молод он ещё, в женском вопросе не искушён. Знаешь, чего этих молодых интересует: шея, талия, рёбрышки всякие — один куриный смех, ей-богу, — говорит, а сам вокруг жабы прохаживается эдаким грачом. — А с другой стороны, государыня, в его словах изрядная доля правды рассыпана, есть в них, так сказать, рационализаторское зерно. В том смысле, что без шевеления тоже жить нельзя. Тебе, государыня, позволительно, конечно, сидеть и ничего не делать, но только здоровью твоему полезнее иногда подвигаться, повертеть, так сказать, телесами. А то, я смотрю, белки-то у тебя нездорового желтоватого оттенку и из живота чуть ли не заводские гудки доносятся. Это всё от сидячего образа жизни, государыня Жаба.
Хозяюшка воздуху в щёки набрала да как вздохнёт шумно:
— Кво-о-ох…
Горшеня удовлетворённо кивнул, Ивану подмигивает.
— Ну вот, пошёл диалог, — и опять жабе: — А мы, государыня, к тебе по делу пришли.
— Ты извини, — продолжает Горшеня, — мы тут побузили немного, с твоей борщевой братией схлестнулись, с вермишелью всяческой, ещё с какими-то лепными полуфабрикатами… Какие-то они у тебя агрессивные, право слово, еле ноги унесли.
Жаба бельмами моргнула, голову чуть набок повернула, глаза скосила на мужика.
— Кво-о-ох… — говорит.
— Что это она квохчет? — спрашивает Иван с опаской.
— Вздыхает она, — даёт разъяснение Горшеня. — Нездоровится ей, похоже.
— Э, Горшеня, — говорит Иван, — повторяешься ты, друг. Все-то у тебя заболевши, всем-то ты помочь желаешь!
— А как же? — остановился Горшеня. — А что же ты предлагаешь?
— Оставь ты свои ветелинарские штучки, давай правду ей скажем.
— Странный ты малый, — смотрит на него Горшеня. — Разве ж это не правда, разве ж я ловчу, сети расставляю? Я на самом деле помочь хочу.
— Ладно, — смутился Иван, отошёл в сторону, — это я так, Горшеня, от волнения горячусь и серчаю. И руки у меня болят нестерпимо. Продолжай, не озлобляйся.
— А чего продолжать, — в свою очередь и Горшеня смутился, как-то замялся весь. — Коли так, давай действительно напрямик попробуем.
Подошёл он снова к Царь-жабе, погладил бежевый осклизлый бок, говорит:
— У нас до тебя важное дело, государыня. Неожиданное такое, значит, дело. Только правильно нас пойми, вникни в самую суть вопроса. Надо нам внутрь тебя протиснуться и кое-что в организме твоём разыскать, кое-какой посторонний предмет незначительных размеров. Как ты на это смотришь? — и отпрянул — в глаза жабе смотрит, реакцию стережёт. — Пустишь нас, хозяюшка?
Жаба сморгнула жёлтыми глазищами, чёрными ноздрями пошевелила и открыла настежь широкий рот: заходите, мол, раз надобность такая неотложная! Горшеня Ивана рукой поманил, подмогли они друг дружке в жабью пасть вскочить, легли на влажный пупырчатый язык — и сглотнула их жаба живьём, будто пару таблеток.
Скатились дружки-приятели в утробный отсек, стукнулись друг о друга с глухим лобным звоном. Ну и ну — такого в их путешествии ещё не было! Уходили от съедения — да, много раз, а вот чтобы добровольно неизвестному существу в желудок влезть — это, извините, беспримерное новшество.
Внутри у Царь-жабы душно и сухо, прямо как на каком-нибудь старом чердаке, но чердак сей, как и подобает, сильно захламлён — очень много скопилось посторонних вещей, и все они навалены в беспорядке. И то ли от этой рухляди, то ли от нутряных жабьих стен исходит некий тускловатый фосфоресцирующий свет. В общем, обстановка вполне себе нормальная — можно производить исследования и раскопки. Горшеня освоился немного в том развале, принялся разбросанные вещи перебирать и осматривать. Смотрит и удивляется: большая часть сохранилась в целости и непритронутости — видать, жабе этого антиквариата не переварить.
— Коли б сделать здесь промывание желудка, — говорит Горшеня, — то вполне можно и жить. Без удобств, правда, но не хуже, чем в темнице, канфорт!
Иван от первого потрясения очухался, торопить друга стал — видно, всё ж таки не очень уютно ему здесь.
— Давай, Горшеня, комод искать, пока нас не переварило. Вон, смотри…
И показывает Горшене на кучку костей человеческих, что тут же поблизости уложены безо всякого анатомического порядка, вразнобой: тазы, черепа, кости берцовые и прочий прах. Горшеня посмотрел на такой расклад, нос почесал с почтением.
— Однако, — говорит. — А я-то думал, мы тут первопроходцы. Да, Ваня, и во что только не ступала нога человека!
Ну да ладно — мир праху, как говорится; пора и о живых подумать. Освободили Иван и Горшеня каждый себе по небольшой площадке, чтобы было куда ноги примостить, да стали все эти сокровища перебирать, перекладывать с места на место. Иван просто так перебирает, бессистемно расшвыривает, а Горшеня со свойственной ему хозяйственной сверхзадачей работает, сортирует: это в одну сторону положит, то в другую отберёт, одно влево запрячет, другое вправо заныкает. И глядишь, вокруг его творчества уже порядок появился, место высвободилось и есть теперь где развернуться. Вот он уже и кое-что полезное по карманам распихал — в наружной жизни пригодится; вот уже и фонарик у него в руках заработал. Иван пробует по-Горшениному действовать, ан ничего не получается — ещё больше беспорядку наводит, пирамиды городит, предметы роняет, сплошной урон. Плюнул он на это дело, стал опять без идеи рыться, по-холостяцки. И вдруг повезло ему — наткнулся на что-то крупное, мебельное.
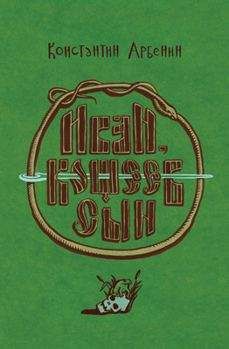




![Ульяна Соболева - Пусть меня осудят...[СИ]](https://cdn.my-library.info/books/4010/4010.jpg)