Иван и Горшеня на фауну отвлекаться не стали, а как только к озеру подошли, легли животами на берег и ну черпать горстями густую свекольную жижу.
— Знатный борщец! — хвалит Горшеня. — Суточный!
— От похмелья — самое то, — нахваливает Иван, — не хуже рассола!
— Смотри-ка ты, с мясом! И с клёцками!
— А вот, гляди, сметана подплывает — пятно белое.
Нахлебались до отвалу, прилегли кверху брюхами — и не заметили, как полтора часа пролетело. Уже и солнце на убыль пошло, а они всё лежат, как убитые. И тут вдруг из самой середины озера раздался вой — угрюмый, пронзительный, нарастающий. Горшеня похолодел было от страха, да потом опомнился — чего тут страшного: похоже, это жаба свои гортанные мехи раздула! Огромная, конечно, жаба, но всё ж таки не бегемот — что ж мы, жаб не видели? Горшеня вскочил.
— Давай-ка, Ваня, двигаться, — говорит, — а то мы совсем что-то скисли, уже темнеть скоро начнёт, а мы всё тянем.
И действительно, вокруг уже сумерки сбираются; багровое месиво чуть шевелится, свою багровость в небе отражает, а посерёдке два солнечных блина лоснятся: один, ровненький, — в небе, а другой, зыбкий, — в озере. И движутся те блины друг к другу: канут в борще — и станет совсем темно.
Иван и Горшеня связали стволы гигантских укропин в снопы, снопы прикрепили один к другому, и получился у них вполне сносный плот. Горшеня лавровый лист к воде подтянул — знатное весло! Только от берега отчалили, сразу горячо стало — плот нагрелся, укроп потемнел, лавр пустил ударный запах. Смотрят друзья друг на друга — сомневаются, что так просто пройдёт у них переправа. И правильно делают: вот уж и вода забурлила, малиновыми ключами пошла, вот уже из воды возникли какие-то острые шлемы. Поднимаются из борща странного вида воины — лица неживые, плоские, будто застывшие в злобной гримасе орнаменты, из-под бронзовых наушников жабры выпирают, пальцы растопырены, между пальцами ещё и жёлтые перепоночки, а ногти — как кинжалы. И тела тех воинов сплошь покрыты крупной чешуёй. Их уже больше десятка из воды вылезло, а всё новые и новые появляются — окружают укропный плот, скалят острые зубы, перебирают жёлтыми когтями.
— Кто это, Горшеня? — спрашивает Иван не своим голосом.
— Не знаю, — говорит Горшеня, — начинка какая-то.
— Да разве в борще начинка бывает?
— Может, это микробы? Прокис, видать, борщец-то…
— Ну и чудища! — говорит Иван, оглядывая подгребающих к ним воинов. — Я таких даже в супе харчо не встречал!
Горшеня, как слово «чудища» услышал, сообразил что-то и полез в свой мешок.
— Сейчас, — говорит. — Есть у меня тут один механизм, проверим, как он действует.
Достал давешний прибор, включил его, высоко над собой поднял. Лампочка замигала, часики затикали — напрягся прибор, заработал, изо всех сил старается. И вот ведь удача: и десяти секунд не миновало, как глубоководные воины корчами пошли, стали под воду уходить, пускать оттуда жалобные пузыри, а потом и вовсе повсплывали брюхами кверху.
— Действует! — вопит Горшеня. — Действует механизм, Ваня!
— Смотри, — показывает Иван пальцем на всплывших воинов, — узнаёшь? Это ж клёцки! Обыкновенные клёцки! Никакие не чудища, Горшеня!
И действительно, воины те утратили свой воинственный вид, скрючились, скукожились и плавают по борщу безо всяких враждебных поползновений.
Но не успели друзья-приятели обрадоваться и победой насладиться, как новая напасть вдали образовалась — попёрли из борща какие-то розовые змеиные головы: высовываются на поверхность и поднимают волны. Такую игру затеяли, что плот раскачиваться стал, вот-вот перетулит его мышца водяная. Мельтешат змеёныши, показывают извивающие свои спины, скалят хищные пасти с тёмными раздвоенными языками.
— Я, Горшеня, начинаю сомневаться, не зря ли мы этого борща поели! — говорит Иван, побледнев так, что даже в сумерках видно.
— Не робей, — успокаивает его Горшеня, — мы у бережка хлебали, там всё путём. А все эти гниловязые прелести — они со дна всплывают; видать, возмутили мы их сладостное спокойствие. Сейчас разберёмся, Ваня, что эти глисты из себя представляют.
Нажал опять кнопочку на приборчике — и пошли по борщу новые превращения.
— Ну вот, Ваня, — комментирует Горшеня, — всё проясняется: никакие это не змеёныши, а просто-напросто лапша.
— Откуда же в борще лапша? — спрашивает Иван с недоверием.
— А почем я знаю! Может, в этом озере раньше лапша плавала, а потом помыли плохо… — Горшеня прибор выключил, чтоб не перегреть, посмотрел из-под руки в сторону острова. — Хорошо, — говорит, — что это не океан, а всего лишь озеро. Мы уже, почитай, половину пути преодолели… Ого! Смотри, там ещё какие-то деликатезы плывут!
Иван посмотрел — за живот схватился. На этот раз всплывает из борщевой глубины что-то уж совсем непонятное — какие-то бесформенные тёмные глыбы со щупальцами. Мало того что они на вид отвратительны и несъедобны, так они ещё звуки издают соответствующие — рычат, хрипят и шамкают. И кажется, нет пуще напасти, чем их чёрные пасти! Иван отвернулся и такой спазм по пищеводу пустил, что его отдачей чуть с плота не скинуло.
— Нет, Горшеня, — говорит, — я всё же чувствую: больше я к борщу никогда в жизни не притронусь!
— Хорошо бы, чтобы и он к нам не притрагивался, — пытается шутить Горшеня. — Только это уже какая-то, видать, заморская стряпня пошла, какой-то, прости господи, крем-брулей!
И включает поскорей прибор, потому как те желейные осьминоги уже почти к самому плоту подплыли и совсем уже грызть его собрались. Загорелась лампочка, затарахтел прибор — пять секунд прошло, десять, пятнадцать… Нет толку! Прибор трещит, надрывается, тикает, как помешанный, а чудищам хоть бы хны — знай прут себе напролом. Горшеня приборчик теребит, ладошкой с разных сторон обстукивает: мол, работай, милый, не подводи! А механизм, похоже, не выдержал перегрузки — очень сильное чудо ему попалось, не по зубам. Что-то в нём фыркнуло, лампочка сморгнула — и каюк, погасла. Горшеня выключателем щёлкает, пальцем по лампе стучит, встряхивает прибор, будто он градусник, — ан нет, сдохла штучка!
А Иван тем временем осаду держит, уже сапогом от чудовищ отпихивается.
— Ну! — кричит. — Чего медлишь, Горшеня, скорее нажимай! Этот хмырь полвесла уже сгрыз!
— Беда, Ваня, — кричит ему друг, — спёкся наш приборчик!
Иван обомлел на миг, чуть было ногу свою в чудищевой пасти не оставил. Глядит на Горшеню, на прибор — что делать? Да и Горшеня в ступор впал — желваками водит, с трудом на плоту равновесие удерживает. От отчаяния размахнулся да как смажет неисправным прибором одного осьминога прямо по лбу — тот отплыл, пасть захлопнул. Иван таким наглядным примером воодушевился и почин поддержал: тоже огрел своего грызонога как следует — обычным молодецким кулаком, без всякой каменной примеси. И того хватило для чудища — соскользнуло оно с плота, задёргалось в борще, как поплавок.
— Эх, сюда бы пару вилок да нож! — кричит Горшеня. — Мы бы с ними быстро расправились!
А тут прямо перед плотом всплывает целый варёный айсберг — с зубами, со щупальцами, с глазами-вёдрами. Стала эта гора глотку отворять, а она у неё размером с городские ворота, — и плот прямиком в неё затягивается.
— Погибаем, что ли, дружище? — спрашивает Иван.
— Похоже на то, Ваня, — отвечает Горшеня, а сам сидор из-за спины достаёт: чем бы, думает, ещё воспользоваться, последнюю удачу попытать. — Однако, Ваня, прен-цен-дент создаём: чтобы один борщ двух мужиков съел — о таком я ещё не слыхивал, это какой-то порционный нонсенс!
А Ивану не до шуток, он супостатов голыми руками припечатывает — весь в борще, в макаронах каких-то, в капустных листах. Разошёлся — не остановить, но только вот чувствует, что не каменеют его кулаки, загривок кольчугой не вздыбливается. Да и не зол он вовсе — на кого в данной ситуации злиться, на стряпню, что ли, эту бракованную?! А осьминожья гора всё ближе к своей пасти плот подтягивает, так и норовит засосать свой кусок человечины с укропом.
— Есть вариант! — кричит Горшеня. — Сдерживай оборону, Ваня, а я сейчас… — Оторвал от плота пару укропных веточек, измельчил в пальцах, Ивану в уши запихивает. — Затыкай, Ваня, уши, сейчас я эту дичь глушить буду!
Кипит озеро, бурлит жидкость вокруг плота, блестят жировые пятна на неспокойной поверхности. Горшеня и себе тоже уши укропом забил, раскрыл заветную книгу «Пролегомены», ноги для пущего равновесия расставил шире плеч и начал ту книгу читать — громко и с выражением. Иван же упёрся руками айсбергу в дёсны — и держится, стопорит тому процесс засасывания пищи. Плот уже в щербину между нижними зубами заплыл, чудовищный язык уже Ивановой груди касается — скребёт его, шершавит, но Иван упирается изо всех сил — изо всех человеческих своих сил, потому что других у него и не осталось. И когда уже совсем, казалось, силы эти изменили ему, когда дрогнули руки и подогнулись колени, вдруг будто кто-то ему подмог маленько — поддержал в этот самый опасный момент, ухватил под локти и подсобил. Оглянулся Иван, посмотрел на Горшеню: а тот на другом краю плота — читает, только уже сидя, и глаза у него не на шутку слипаются. Иван дух перевёл, упёрся в пасть сызнова, позу на более удобную сменил да ещё и умудрился Горшеню пяткой лягнуть. Тот спохватился, перелистнул страницу.
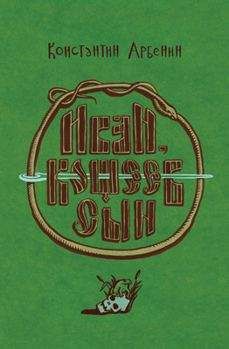




![Ульяна Соболева - Пусть меня осудят...[СИ]](https://cdn.my-library.info/books/4010/4010.jpg)