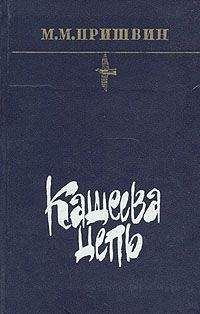— Овчинники, — сказал Чурка Алпатову, — они у нас все пчелами занимаются, это дядя Григорий, ихний вожак.
Дядя Григорий поклонился Алпатову. Чурка стал ему все рассказывать с начала, как он храп услыхал в кусту можжевельника и стал подползать и как разговорились о бабах и он дал ему верный совет.
— Это счастье, — повторил дядя Григорий, — от весеннего теплого воздуха. Муха, червяк, всякий болотный гнус от мороза не умирают, а только засыпают и от весеннего теплого воздуха опять начинают чудить: им смерти нет. А пчела и муравей умирают, как человек, трудятся и умирают. Приятель! — сказал Григорий и взял Алпатова за рукав. — Как умерла у меня жена, дела у меня не убавилось, а прибавилось: те же овчины, та же лошадь, корова, овчонки, и нас не двое, а я один стал. Да вот, бывало, домой приду, — мне бабья журьба не дает отдыху. А теперь как приду домой... тишина! Тут полюбил я пчелу, стал размышлять, и мне открылся свет. Всему дивлюсь теперь и за жизнь свою благодарю. — Григорий понизил голос: — И плотским грехом не занимаюсь.
Услыхав последние слова, Чурка зевнул и ответил:
— Конечно, вы овчинники, дух у вас в избе постоянно тяжкий, ну, а как мы охотники, живем на вольном воздухе... — Чурка не договорил и вдруг крикнул:
— Глядитя: река пошла!
Это только мог Чурка заметить: река тихо пошла. Но скоро все зашумело, заскрипело, зарычало, и льдина полезла на льдину. Показался на гатях народ. Где-то за рекой колокол ударил, и народ валил к ледоходу, как в церковь к обедне. Все смотрели на Алпатова и дивились ему, а Чурка рассказывал всем, как этот человек ночевал в лесу, и не простой человек: может гнать чистый деготь, патоку и водку, сладкое и горькое.
Между тем на одной плывущей льдине оказалась корова. Тогда все забыли про Алпатова и многие бросились спасать. Потом оказалась плывущая дорога совсем с вешками. Дорогу узнали и проводили. Проплыла баня и даже сарай...
Алпатов видел на льдинах свое, как Снегурочка проплыла и вслед за ней царь Берендей, видел, плыли грязные льдины одна за одной, как звенья разбитой Кащеевой цепи. А великий художник, управляющий переменой цветов, ему говорил:
— Друг, земля моя усеяна цветами, тропинка вьется по ней, как будто нет и конца ароматному лугу. Я иду, влюбленный в мир, и знаю: после всякой и самой суровой зимы приходит непременно весна, и это наше, это явное, это день, а крест — одинокая ночь, зима жизни. Я художник и служу красоте так, что и сам страдающий бог, роняя капли кровавого пота, просит: «Да минует меня чаша сия». Я призван украсить наш путь, чтобы несчастные забыли свой зимний крест и дождались новой весны.
ЗВЕНО ОДИННАДЦАТОЕ
ИСКУССТВО КАК ПОВЕДЕНИЕ
На этом автобиографический роман «Кащеева цепь» кончается.
И не потому он кончился, что исчерпано автором содержание его собственной жизни, а скорее напротив, кончилась юность Алпатова, и началась новая жизнь: старая правда встретилась с новой, между ними завязалась борьба. Стало невозможным писать о себе: писать автобиографический роман в те годы, когда все жизненные ценности предстали на суд.
Между тем как все на свете подлежало разбору, книги наши все выходили и выходили и тоже вместе с ценностями культуры подлежали пересмотру. Так и моя книга попала на суд читателя.
Мне писали: «Что же дальше-то стало с вашим Алпатовым, когда он попал на родину и ушел в природу? И что это за «природа»? Есть ли это место применения человеком творческих сил или место личного убежища в спасении от новых требований жизни?»
Много было писем в таком роде, и долго я не мог их понять. Мне казалось, что раз Алпатов попал в гущу родного ему народа, окружен его любимой природой, то не все ли равно, кем он сделался и каким родом творчества жизни он будет служить народу: будет ли он агрономом, торфмейстером, писателем, — не все ли равно? С моей точки зрения, всякий человек обладает к чему-то особым талантом. Новое общество должно быть таким, чтобы каждый входил в него со своим талантом. Вот таким цельным живым человеком и стал Алпатов, когда наконец в поисках любимого дела он после многих попыток нашел его при встрече с родиной.
В этом роде я и отвечал моим читателям, но они не унимались.
«Дорогой писатель, — отвечали они мне, — никто у нас точно не знает, что такое «природа», спросите любого, к каждый человек ответит по-своему, начиная с дачника и кончая лесорубом. Мы догадываемся, что для вас природа есть место встречи с творчеством самой жизни и всего вашего поведения. Читая жизнь Алпатова, нам казалось, что вы к тому именно и рассказываете о ней, чтобы вывести дальнейшие ваши усилия в борьбе с Кащеевой цепью, заключающей в эгоизм собственности все человечество. Нам нужен такой финал, такое звено, чтобы оно указывало нам путь. Пусть Алпатов и не разобьет на своем личном пути Кащеевой цепи, но мы должны знать, что сталось с Алпатовым в его неравной борьбе: узнав его ошибку, мы сами станем сильнее.
А может быть, как вы сами намекаете, ваш герой заменил свою беспредметную страсть к почти не знакомой ему девушке творчеством и жизнь его обращается в добрый пример?
Почему вы не напишете необходимый финал?»
Прошло тридцать лет со времени выхода романа и того обмена письмами с читателями. К этим тридцати надо еще прибавить, по крайней мере, двадцать, чтобы сомкнуться с тем временем, когда Алпатов вернулся из Германии и «ушел в природу».
Было это, значит, пятьдесят лет тому назад, и в эти полстолетия прошло столько великих перемен мировых, что положение мое с продолжением романа до наших дней стало явно безнадежным.
Через пятьдесят лет мне стало, однако, многое-многое ясно из того, за что боролся Алпатов, чего не находил.
Мне кажется даже по временам, что я разбил уже цепь моего заключения и, выйдя на свет, так обрадовался открывшейся жизни, что мне и хватило этой радости на мои полстолетия сознательной жизни, обращенной моей собственной волей в творческое поведение.
Где уж тут в мои восемьдесят лет написать мне роман до конца! Но мне кажется возможным рассказать здесь об Алпатове, как он сделался писателем после того, как «ушел в природу».
О той же мысли своей, которая освещает сейчас мою жизнь, — об искусстве как творческом поведении, — я непременно напишу отдельную книгу.
Сейчас же, прежде чем рассказывать, как я стал писателем, я поделюсь некоторыми мыслями из этой моей будущей книги.
Легко сказать — «моя жизнь», а попробуй-ка напиши, если прожил ее с 1873 года! Считаю свою трудную жизнь за великое счастье и об этом одном хотел бы написать.
Миллионы и миллионы проходят людей, и никто не спрашивает у них жизнеописания, а кто ты такой нашелся, чтобы как о редкости великой самому о себе заявлять?
На этот вопрос моей совести я так отвечаю:
— Всякое живое существо говорит о себе не только словами, но и формой своего поведения в жизни, никто не безмолвствует.
Попробуйте затаиться в лесу до того, что вас перестанут бояться живые существа и станут показываться. Тогда не только какой-нибудь еж или белка заговорят по-своему, но и среди ежей появится невиданный, и среди белок узнаешь небывалую. Появится белая, голубая, и щегол с цветной копеечкой на затылке, и так мало-помалу войдешь в процесс перемен.
Если войдешь глубоко в жизнь природы, то поймешь отдельно каждое существо, и они тем самым скажут о себе, а ты людям о них скажешь словами.
Так выпало мне на долю обращать поведение живых существ в слова, и вот отчего миллионы людей проходят, и от них не спрашивают жизнеописания, с меня же спрашивается.
Из старых писателей Грибоедов чудесно сказал: «Пишу, как живу, и живу, как пишу».
Таков и мой идеал: достигнуть в словесной форме согласия ее с моей жизнью.
Больше всего из написанного мною, как мне кажется, достигают единства со стороны литературной формы и моей жизни маленькие вещицы мои, попавшие и в детские хрестоматии.
Из-за того я их и пишу, что они пишутся скоро, и, пока пишешь, не успеешь надумать от себя чего-нибудь лишнего и неверного. Они чисты, как дети, и их читают и дети, и взрослые, сохранившие в себе свое личное дитя.
Мне представляется, что они живут, эти мои безделушки, как белки на елках, и, будучи литературными вещами, имеют свое определенное поведение, как всякое живое существо. Эти вещицы, как мне хотелось бы верить, будучи сделаны рукой человека, в то же время живут среди многих сотен тысяч людей, как существа природы.
Тут-то вот и спрашиваешь: «Каким же ты должен быть сам, ты, способный создавать существа почти живые, а иногда и получше многих живых?»
Когда разглядываешь годовые кольца древесины на пнях или в лупу разглядываешь разветвления в зеленом листе, то с удивлением видишь: ничего не повторяется. Ничего друг с другом не складывается, а вместе все делают одно: растят древесину и поднимаются к солнцу выше и выше.