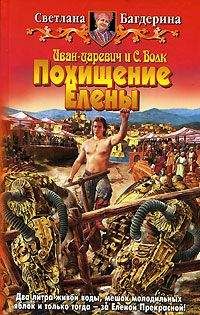Ванюшка долго не отвечал, все смотрел в стол, на котором торопливо бегал из конца в конец шустрый тощенький таракан.
- А чего же говорить, мамка? - поднял он наконец усталые глаза. Пойди. Только ведь побоятся они. Да и, помнишь, батя их всегда богачеством попрекал: дескать, не трудом нажито ваше все - и дома, и всякая там одежа. Помогут ли?
- Упрошу, миленький, упрошу-умолю. Вдруг да и вправду отца ослобонят... Выйдет он из тюрьмы, и уедем мы из этой Уфы проклятущей, чтобы никто нас не знал. Хорошо бы в деревню, а? Коровку завести, огород свой, чтоб и молочко маленьким каждый день... А?
Ванюшка вздохнул:
- Это да... Только, я считаю, мамка, надо наперед к дяде Залогину сходить: он умный и батю уважает. Что он скажет?
Наташа несколько минут пристально смотрела в покрытые инеем стекла окна.
- И это, сынка, верно... - Она глянула на ходики, косо висевшие в межоконном простенке.
С жестяной дощечки в полутьму комнатенки равнодушно смотрел царь Николай: лицо его еще тогда, в декабре, Иван Якутов перечеркнул карандашным крестом; потом Наташа с трудом отмыла этот крамольный крест.
Помнится, Ваня хотел тогда же выкинуть часы, но как бы тогда на работу ходить? Если погода тихая, гудки и с мастерских и с фабрики чаеразвесочной слышны, а как завоет метель, запуржит, тогда, кроме воя, и не слыхать ничего. Так и остались висеть ходики. Покупала-то ходики она, Наташа. Если бы Иван покупал - разве купил бы с царским лицом? Да ни в жизнь!
- Вот и давай наперед сходим до дяди Матвея. А?
- Пойдем, сынок... Только вечером надо, чтоб не уследил кто.
Залогин жил под горой, неподалеку от мастерских, снимал комнатку у извозчика-татарина.
На улице бушевала снежная замять, лизала стены и окна снежными языками, переметала тропки. Крыши домов и сараев дымились на ветру, словно бушевал в городе странный холодный пожар. Качались и ржаво скрипели жестяные вывески, изредка позванивал от ветраколокол на пожарной каланче. Людей на улицах не было, и даже колотушки сторожей молчали, словно онемели, и собаки за высокими заборами не взлаивали, позабивались от стужи в конуры.
Окошки у Залогиных темные, но Наташа все же постучала, и сейчас же, словно в доме только этого и ждали, в глубине, за заледенелыми окнами, заколебалось бессильное пламя спички, потом стало светлее, зажгли лампу.
Силуэт женской фигуры появился в окошке, но, наверно, ничего разглядеть было нельзя, - женщина махнула рукой и исчезла. Во дворе заскрипела дверь, что-то испуганно бормотнул женский голос, звякнула щеколда калитки.
- Кто здесь?
- Якутовы. Нам Матвея Спиридоновича. Вы уж извините за ради бога...
- Якутовы? Ивана Степаныча? - спросил женский голос уже теплее, и темная фигура отодвинулась, освобождая проход. - Проходи, милая. Что-то имени твоего я не упомнила.
- Наталья.
- Сынок с тобой, что ли?
- Ага.
- Сюда шагайте... Снегу-то, снегу што намело. Как завтра на работу идти - страх... Тут ступеньки, не осклизнитесь.
Залогин сидел у стола полуодетый, яростно дымил самокруткой; лицо его казалось еще темнее, чем всегда. Увидев на пороге Наташу, встал, облегченно вздохнул:
- Вон кто! А я, признаться, Наталья, кажную ночь других гостей жду... Чего стряслось?
Жена Залогина, крепкая светловолосая женщина с ранними морщинами на широком плоском лбу, старательно занавесила окошко, придвинула к столу табуретки.
- Садись, Наталья. Рассказывай, - сказал, гася цигарку, Залогин. - С Иваном что?
- Вот сын расскажет...
И опять Ванюшка повторял то, что рассказал матери.
Залогин слушал молча; огромные шершавые его руки неподвижно лежали на столе. Когда Ванюшка замолчал, Залогин встал, прошелся по комнатке, огромная тень проползла по стенам и потолку. Потом он снова закурил и сел.
- Тут слов нет, Наталья, - протянул наконец Залогин, окутанный ядовитым дымом. - Все, что может помочь Ивану, используем. И хотя веры моей этим цепным псам никакой нету, кто знает, ведь и среди ихнего брата не все же слепые, не все же без совести... Авось и вызволим Якута...
И тут Ванюшка не выдержал.
- Дядя Матвей! - боясь поглядеть на мать, глухо сказал он. - Присухин еще сказал, что бате обязательно... веревка... Он... он за собой вины не признает. И молчит... не выдает...
Наташа судорожно вцепилась побелевшими пальцами в край стола.
- Какая?.. Какая веревка?!
Залогин хмуро посмотрел на Якутову, выразительно провел ребром ладони по шее. И Наташа откинулась к стене, стала белая, как известковая стена за ее спиной, зажала ладонями рот, чтобы не закричать.
- Цыц! - прикрикнул на нее Залогин. - Мать, подай ей испить!
И пока Наташа пила, в комнате было тихо, только слышалось лязганье зубов Наташи о железный край прыгавшего в ее руках ковша.
Потом Залогин снова заговорил:
- Денег, конечное дело, этому хмырю дать надо. Помощь там не помощь, а из первых рук знать будем, как суд Ивану идет... Что касаемо веревки, думаю, просто хмырь цену набивает, чтобы побольше попользоваться. Не может же быть, чтобы к виселице, никак не может такого быть! Ну, срок, конечное дело, обязательно дадут. Бежать ему с этапа ли или уж с места - дело само покажет. Документы мы справим, есть в Иркутске такой дока - любую печать, любую бумажку мастерит. Уедет Иван куда подальше, в работу определится, а после и вы, Наталья, к нему переберетесь, как поостынет трошки лютость эта. А там, глядишь, и новая революция рядышком, тогда наша окончательно возьмет, тогда мы им суд чинить станем за все их злодейство, за всю кровь рабочую.
Он с минуту молчал.
- А что касаемо деньжат, Наталья, поговорю я с братвой, наскребем кой-чего... И ты у сродников прихвати - кто знает, сколько они за Иванову жизнь затребуют. И мне обо всем знать давай - будем побег думать... По секрету сказать, с этими столыпинскими вагонами иногда неплохие ребята ездят, глядишь, и спроворим чего. А уж если нет, с места будем что-нибудь придумывать. Ежели ссылка - совсем пустое дело. В прошлые годы сколько мы разного народа с Красноярска, с Енисейска да Якутска в Россию перевалили... - Он встал, отогнув уголок рядна, выглянул в окошко. - Вроде поскребся кто. Вы, Наталья, шли - у дома никого?
- Нет, Матвей Спиридоныч, вроде никого не было...
- Ну и добро... А то ведь все надзирают, все надзирают, сволочи. Просто дышать не дают.
- За совет спасибо, Спиридоныч.
- Ладно тебе пустое балабонить! Что Иван молчит - молодец. Развязал бы язык, сколько бы народу нашего полетело!
Утром на другой день Наташа отнесла в тюрьму передачу, и ее приняли. Этот факт, мелкий сам по себе, окрылил и мать, и сына. Им стало казаться, что теперь все страшное позади - значит, не такой уж отец "злодей", не такой жестокий будет ему суд.
- Стало быть, правду Василий Феофилактович говорит: есть у него сила в тюрьме... Видишь, сынка, без слова приняли - это его дело. Отнесем ему денежек - побольше бы набрать только, - передаст он кому след, и облегчат батину долю. Ежели ссылка, так, бог мой, на край света поедем Наши-то руки семью где хошь - хошь в самом аду - оправдают, обработают... Ванюшка, а ежели тебе нынче в завод не пойти? А? Пошли бы к дяде Степанычу и к тетке Лукерье вместе. Одна-то я приду - не то. А ты - все же дите, родная кровь.
Но потом рассудили, что Ванюшке идти на завод надо: мастер и так сколько раз придирался - выгонят в два счета, а как-никак рублей до двадцати в дом мальчишка приносит.
И Наташа пошла к родным мужа одна.
Брат Ивана, портной, построил себе в прошлом году небольшой новенький дом; три окошка выходили в палисадник, украшенные резными, похожими на кружева наличниками. Парадное крылечко спускалось пятью ступеньками прямо на улицу, но по нему, видно, не ходили - белел нетоптанный снег; точеные перильца и балясины блестели свежей голубой краской. На окнах пузырились белые кисейные занавески, зеленели неизменные герани.
На стук в калитку вышел сам Степаныч в накинутом на плечи черном романовском полушубке, в высокой каракулевой шапке.
Когда увидел Наталью, в худом лице его что-то дрогнуло, глаза через плечо Наташи бегло оглядели уличку из конца в конец.
- А?! Кинстентиновна?! - удивился он, поспешно отступая от калитки и давая ей пройти. - Заходи, заходи, свояченя... Давненько, давненько... И что-то исхудала ты, милая, с лица вовсе спала... Детишки-то здоровы? Бог милует?!
Заперев калитку, Степаныч пошел впереди Натальи, говоря на ходу:
- Моей супружницы дома нету, к своим старикам на денек, значит, в город Белебей подалась, так что я бобыльничаю, сирота, можно сказать... Н-да... Снежок-то вот метелкой обмети, милая...
Из передней прошли в большую комнату, где вдоль глухой стены стояли широкие портновские нары; на них валялись куски синего и зеленого сукна, сверкал черный коленкор, блестели тонкие острия ножниц.
Над нарами висел в недорогой раме цветной портрет царя в военном мундире, при погонах и при сабле. В переднем углу блестел фольгой и латунью иконостас.