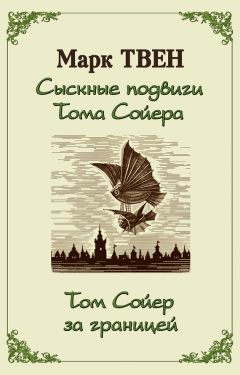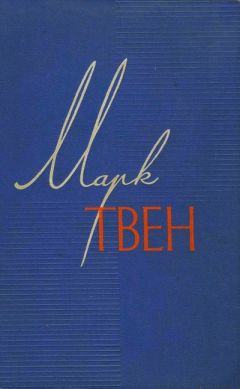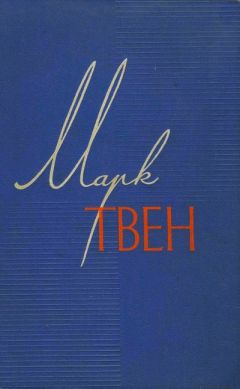– Как же мы допустили их завладеть ею?
– Мы вовсе не допускали их завладеть ею. Они всегда владели ею.
– Послушай, Том, так, значит, она ихняя, разве нет?
– Ну, конечно. Кто же говорит, что нет?
Я призадумался, но никак не мог понять, какие же у нас права на нее, и говорю:
– Это чересчур мудрено для меня, Том Сойер. Ежели у меня есть ферма, и она моя, и другому человеку захочется получить ее, то разве он имеет право…
– Экий вздор! Ты самой простой вещи сообразить не можешь, Гек Финн. Тут не ферма, а совсем другое. Видишь ли, вот в чем дело. Они владеют землей, только одной землей, и только это им и принадлежит; но мы, евреи и христиане, сделали ее святою, и, стало быть, нечего им осквернять ее. Это позор, и мы не можем потерпеть его ни минуты. Мы должны пойти на них и выгнать их оттуда.
– Ну, мне это кажется самым запутанным делом, какое я только знал. Теперь, положим, у меня есть ферма, а другой человек…
– Да ведь я же тебе сказал, что фермерство тут ни при чем! Фермерство – это занятие, самое обыкновенное, простое, мирское занятие, и все тут, больше о нем ничего и сказать нельзя; а тут высшее – тут религиозное, и совсем другое.
– Религиозно – пойти и отнять землю у народа, которому она принадлежит?
– Конечно! Так всегда считалось.
Джим покачал головой и говорит:
– Господин Том, это, верно, бывает ошибка, – наверно, так. Я сам религиожный, и жнаю пропасть людей, которые религиожные, и я не видел ни одного, который так делает.
Том взбеленился и говорит:
– Вы с ума сведете человека своим ослиным невежеством. Если б вы хоть сколько-нибудь были знакомы с историей, вы бы знали, что Ричард Львиное Сердце, и папа, и Готфрид Бульонский, и множество других, самых благородных и благочестивых людей на свете, рубили и колотили язычников двести с лишним лет, стараясь отнять у них землю, и все время купались в крови по горло, – и вдруг, вот тебе раз, двое безмозглых деревенских олухов из Миссурийской трущобы объявляют, что им-де лучше известно, что правильно и что неправильно. Извольте толковать с ними!
Ну, конечно, это представляло все дело в другом свете, так что мы с Джимом почувствовали себя простаками и невеждами и жалели, что так опростоволосились. Я не знал, что сказать, и Джим тоже сначала не знал, а потом и говорит:
– Ну, тогда думалось, это правильно, потому как они не знали, то где же нам, неучам, знать; и если это наш долг, то надо нам его делать и исполнять, как могим лучше. Только мне жалко тех язычников. Очень это тяжело – убивать людей, которые с тобой не знакомы и ничем тебя не обижали. Вот оно что. Скажем, пошли мы к ним, мы трое, и говорим, что мы голодны, дайте нам поесть, а они, как бывают другие люди и негры, – понимаете? – вожмут да и дадут нам поесть, я уж жнаю, что дадут, – и тогда…
– Ну, что ж тогда?
– Видите ли, господин Том, я так мышляю. Не выйдет у нас, не смогим мы убивать бедняг, которые нам никаких худых дел не сделали, пока не приучиваемся зараньше, – я это отлично понимаю, господин Том, правда, отлично понимаю. Так вот, мы вожмем топор или два топора, вы и я, и Гек, и жаберемся ночью, когда месяц спрячется жа реку, и убиваем большую семью, что живет на Снай, потом спалим ее дом и…
– А, да замолчи ты, мочи нет слушать! Не хочу больше и толковать с такими людьми, как ты и Гек, которые вечно отклоняются от предмета и у которых умишка только на то и хватает, чтобы подводить чисто богословскую вещь под законы о собственности.
Ну, в этом Том Сойер был неправ. Джим не хотел ничего худого, и я не хотел ничего худого. Мы очень хорошо понимаем, что он прав, а мы не правы, и все, чего мы хотели, – это добиться толку, больше ничего; а если он не мог растолковать нам так, чтобы мы поняли, то только потому, что мы были неучи, – да, и туповаты к тому же, не стану спорить. Но, бог мой, ведь это же не преступление, я думаю?
Но он больше и слышать не хотел об этом; сказал только, что если бы мы правильно взглянули на дело, то он собрал бы две тысячи рыцарей, одел бы их с ног до головы в железо и назначил бы меня своим помощником, а Джима маркитантом, а сам принял бы начальство, и смел бы всех язычников в море, как мух, и вернулся бы на родину, пройдя через мир со славой, как заходящее солнце. Но мы не сумели, прибавил он, воспользоваться счастьем, когда он его предлагал, а больше он предлагать не станет. И не предложил. Он ведь, уж если упрется на чем-нибудь, так ничем его не сдвинешь.
Но я не очень огорчался. Я человек миролюбивый и не хочу затевать ссору с людьми, которые мне ничего не сделали. По мне, пусть язычники остаются при своем, а я при своем.
А Том набрался всей этой чепухи из книг Вальтера Скотта, которого всегда читал. И это в самом деле была чепуха, потому, где бы он мог набрать столько людей, да хоть бы и набрал, то, наверно, получил бы трепку. Я взял у него эти книги и прочел, и, насколько могу судить, большинству людей, которые побросали свои фермы и отправились в крестовый поход, пришлось очень круто.
Мы отправляемся смотреть воздушный шар. – Неожиданное путешествие. – Мы в плену у профессора. – Ночь на воздушном шаре.
После этого Том придумывал разные планы один за другим, но во всех оказывались какие-нибудь изъяны, так что приходилось бросать их. Под конец он впал почти в отчаяние. В это время сент-луисские газеты стали толковать о воздушном шаре, который собирался лететь в Европу, и Тому пришло в голову, что не мешало бы отправиться туда и посмотреть, как он выглядит; только он все не решался. Однако газеты продолжали толковать, и он рассуждал, что ежели не поедет, то, пожалуй, другого случая и не представится увидеть воздушный шар; да к тому же узнал, что Нат Парсонс едет, – ну и, конечно, решился. Он не хотел, чтобы Нат Парсонс, вернувшись, стал хвастаться, что видел воздушный шар, а ему, Тому, пришлось бы слушать да помалкивать. Вот он и пригласил меня с Джимом, и мы отправились.
Знатный был шар, огромный, с крыльями и разными штуками, совсем не похожий на те, что на картинках рисуют. Он находился на окраине города, на пустыре в конце Двенадцатой улицы, а кругом стояла толпа и издевалась над ним и над его хозяином – тощим, бледным малым, с таким, знаете, кротким, лунным блеском в глазах, – и все уверяли, что он не полетит. Он выходил из себя, слушая их, и поворачивался к ним, и грозил кулаком, и говорил, что они скоты и слепцы, но наступит день, когда они убедятся, что стояли лицом к лицу с одним из тех людей, которые составляют славу народов и создают цивилизацию, и оказались слишком тупы, чтобы понять его, и что на этом самом месте их дети и внуки воздвигнут ему памятник, который простоит тысячу лет, а его имя переживет и памятник; толпа же в ответ на это только пуще гоготала и ревела, и спрашивала, какую он фамилию носил до своей свадьбы, и как зовут бабушку кота его сестры, и разные подобные глупости, которые толпа кричит, когда попадется ей малый, над которым можно потешиться. То, что они говорили, было забавно, – да; и очень остро; но не очень-то оно красиво и храбро – нападать толпой на одного, когда притом они были так бойки на язык, а он и огрызнуться путем не умел. Но, право же, зачем ему было пререкаться с ними? Вы понимаете, пользы ему от этого не было никакой, а им только того и хотелось. Тут-то они и наседали на него. Но он ведь отвечал; должно быть, не мог удержаться, – так уж, видно, был создан. Он был довольно доброе существо и никому не делал вреда, а, как говорили газеты, был просто гений, но ведь это же не его вина. Не всем быть здоровыми; кто как создан, тот таким и остается. Гении, насколько я могу понять, думают, что они все знают, и потому не хотят ни у кого спрашивать совета, а всегда делают все по-своему; за это все от них отворачиваются и смеются над ними, что совершенно натурально. Если бы они были посмирнее, слушали бы других да старались учиться, – куда бы это лучше было для них же самих!
Та часть шара, в которой находился профессор, была вроде лодки, очень большой и вместительной; в ней имелись вдоль бортов непромокаемые лари для всевозможных запасов, на них можно было и сидеть, и спать. Мы вошли в лодку, в ней было еще человек двадцать, осматривавших устройство, и старый Нат Парсонс тут же. Профессор суетился, готовясь к отлету, и публика начала уходить, один за другим; старый Нат ушел последним. Конечно, мы не могли допустить, чтобы он остался дольше нас. Мы не тронулись с места, пока он не ушел, решив, что сойдем последними.
Но вот он ушел, пора и нам было отправляться. Вдруг слышу я громкий крик, оглядываюсь – город падает под нами, как пуля. Я так и обмер, перепугался до страсти. Джим совсем серый стал и не мог слова выговорить, а Том ничего не говорил, но выглядел взволнованным. Город падал все ниже, ниже, ниже, мы же будто просто висели в воздухе и не двигались. Дома становились все меньше и меньше, город все съеживался да съеживался, люди и экипажи выглядели точно муравьи и клопы, ползавшие внизу, а улицы точно щели и ниточки; а там все слилось, и города как не бывало; остался только большой волдырь на земле; и мне чудилось, что теперь можно видеть вверх по реке и вниз по реке на тысячу миль, хотя, конечно, глаз не хватал так далеко. Мало-помалу земля стала как мяч – настоящий круглый мяч серого цвета, со светлыми полосками, извивающимися и переплетающимися по нему, а полоски эти были реки. Погода стала холодноватой. Вдова Дуглас всегда говорила мне, будто земля круглая, как мяч, но я никогда не обращал внимания на разные ее суеверия, а это и подавно пропускал мимо ушей, потому что своими глазами мог видеть, что земля вроде тарелки, плоская. Я взбирался на холм, и осматривался кругом, и убеждался в этом сам, потому что, по-моему, лучший способ удостовериться в чем-нибудь, это пойти и посмотреть самому, а не полагаться на чужие уверения. Но теперь мне пришлось сознаться, что она была права. То есть права насчет остальной земли, но вовсе не права насчет той части, где лежит наша деревня: та часть совсем как тарелка, плоская, ей-богу.