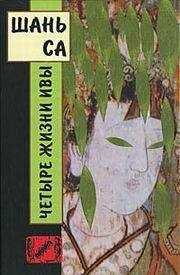На месте снесенной мурьи стали подыматься потихоньку стены новейшей постройки в испугавшем всю округу раковинном штиле, веселые дорожки легли между кленами, в чьей листве затаились, словно стыдясь наготы, мраморные статуи. Единственным недостатком Кленова Злата оказался недостаток большой воды — вить для русского помещичьего дому так привычен красивый пруд, исправный поставщик постного стола. Однако ж вокруг дома било много родников, чей ток Филипп распорядился направить по каменным горкам и выемкам на украшение парка.
И когда через три года строительство завершилось, было как-то уже само собою ясным, что шестнадцатилетняя Елена вступит в него хозяйкою.
А все ж прав Филипп, каждый должен прожить свою жизнь. Ну их вовсе, любовные бури, еще так ли хороши те в жизни, как в романах? У них свои были радости. Как весело было, к примеру, наново знакомиться с Филиппом в глазах родителей. Целая комедия как есть! Не во всем, правда, удавалось удерживать роль.
«Вот вить странность, Сириль, — говорила Елизавета Федоровна, как всегда полагая, что Нелли не слышит. — Девочка так дичится обыкновенно чужих, а к этому французу просто прилипла. Надобно мне поговорить с нею. В ее летах довлеет большая скромность в обращении с мужчинами. Не вовсе же она дитя».
«Пустое, мой ангел, — отвечал Кирилла Иванович. — С такою доброй улыбкою молодой человек ее появленье встречает каждый раз! Поручусь, Нелли не кажется ему невоспитанною. Славный юноша, ей же ей, славный».
Сколь щасливы были б все минувшие годы, когда б не было столько горя.
Появление Платона развеяло Филиппа в его сердечной тоске, но судьба уж уготовила новые испытания. Сколь странным было их начало!
Платону не было и трех месяцев, как Нелли засобиралась в Сабурово. Заране было уговорено, что приедет она гостить на Апостола Андрея.
Однако, когда сундуки уж заняли позицию посередь гардеробной, пришло письмецо от Елизаветы Федоровны. Принес его родительский лакей Карпушка, долголягий малый годов пятнадцати, все мечтавший в солдаты. Лакей из него впрямь курам на смех, в который раз подумала Елена, принимая письмо с поданного горничною девушкой подносика. Вот сейчас, к примеру, ускакал не дождавшись, будет ли ответ.
В следующее мгновенье мысли о Карпушке позабылись. Письмо, что держала Нелли в руках, благоухало ароматическим уксусом.
Но что из того, что маменька отстала вдруг от своего обыкновения пренебрегать духами? Разве немного фиалковой пудры на волоса — вот все, что могла позволить себе Елизавета Федоровна, ревностная приверженица естественных идей. Душить же письма она почитала дурным вкусом.
Елена торопливо сломала печатку. Письмо оказалось писано не пером, но грифелем. Развернутое, оно благоухало еще сильнее.
«Папенька твой посередь ноября затеял перестраиваться, — писала Елизавета Федоровна. — Хочет левую угольную разделить на две горницы, да двери в столовую расширить, да еще всякое. Так что, ангел мой, не в обиду, а не зову. По всему дому опилки да бадейки с известкою, а сору хоть соседям в долг давай. Уж и Романа к попадье отправила, а с твоими слабыми легкими мигом закашляешь».
Беда невелика, можно и к Рождеству приехать. Но отчего письмо надушено?
Пустяк этот впился занозою, тревожа Нелли. Ах, не отпросись Параша по каким-то загадочным своим надобностям на всю седмицу! Стало б легче, коли обсудить сие с детской подругою. Филипп не поймет, он все ж француз. Эка важность, пожмет он плечами. Женщины — создания переменчивые. Отчего бы красавице теще да не полюбить благовония? Да и к чему беспокоить Филиппа, когда только начал он приходить в себя. Кабы могла она объяснить толком, что не нравится ей в надушенном письме! А так — гиль.
Нелли держалась три дни. На четвертый не выдержала. Горничная Дашенька ушла в деревню, и Нелли, обуянная нетерпением, сама натянула амазонку. Казалось невозможным ждать девушку, невозможным оставлять записку Филиппу. Выведя из стойла мужнина жеребца Ворона, самого скорого на галопе, Нелли вскочила в седло.
Дороги до Сабурова она не заметила. Должно быть, скакала обычною дорогою, а может и нашла путь покороче.
Дворовые разбежались при ее появлении, как куры из-под ног. Несомненный испуг обуял их — в виде кого, господской дочери, что выросла на их глазах! Нелли стрелою влетела в дом.
Никаких следов строительства, о коем писала маменька, не было в нем.
Ни расширенных створок, ни известки, ни теса. Нелли бежала, распахивая двери. Родительская спальня зияла ременною основой рамы, с которой отчего-то снята была постеля. Промозглый ветер задувал внутрь, хлопая широко распахнутыми фортками. Ладонь прикоснулась к холодным изразцам печи.
«Барыня приказала, барыня, — лепетал кто-то, кого она, кажется, трясла за ворот, непонятно даже кто, женщина или мужчина. — Барыня не велела…»
Словно через мгновение Нелли стояла уже за церковью, перед двумя свежими холмиками. Первый снег едва припорошил комья сухой земли.
С инфлюэнцей слегли также две домашние девушки и кухонный мальчишка, но тех удалось выходить. Теперь Елена вспоминала, что бумага благоухающего письма как-то странно коробилась. Оттого и писано было грифелем, чтоб буквы не поплыли, когда Елизавета Федоровна вылила на свое посланье добрых полфлакона уксуса.
Маменька боялась заразы. Оттого и Карпушке велено было мчаться назад, не дожидаясь ответа.
Нелли засмеялась — но как же затейливая ложь? Никогда маменька не была на оную горазда. Даже безобидный светский обман приводил ее в замешательство. Между тем, единственная, похоже, правда в письме, сводилась к тому, что маленькой Роман отослан под крылышко попадьи, верно едва в доме стали явны первые зловещие признаки хвори. Как же она сумела все сие измыслить? Подумать только, угловую на две горницы, да сор, да опилки. Как тут можно не поверить?
Ноги сделались ровно тряпичные. Нелли сперва опустилась на колени, а затем упала в снег между двумя могилами.
Иногда из темноты появлялось лицо Параши, а следом к губам приникала чашка с горячим питьем. От питья делалось покойней, и переставало казаться, что отовсюду струится тревожный запах ароматического уксуса. Откуда-то Нелли знала, что Филипп все время рядом — днем и ночью, хотя ночь и день для нее смешались.
«Они вить не благословили меня, Филипп, не благословили перед смертью!» — Была ночь, но Нелли не лежала в постели: Филипп носил ее по комнате на руках, словно она была ребенком, а он — укачивающей дитя нянькою.
«Десятки благословений посылали они тебе на смертном одре, но будь ты рядом, телесные страдания родителей твоих умножила бы сердечная тревога».
«Роман? Где Роман?» — теперь были солнечные лучи в белом шелке портьер, и Параша спала в креслах, уронив на руку голову.
«Ему незачем видеть тебя больною, Нелли, — с мягкою непреклонностью возражал Филипп. — Он не видал родителей больными, но знает вить, что они умерли».
Платона же иногда клали ей на постелю, и от копошения в подушках и бессмысленного лепета делалось не меньше покойно, чем от зелий Параши.
Оправляясь от нервной горячки, Нелли примечала, что Филипп вновь стал собою прежним — веселым и ровным, каким был всегда, покуда не обрушились страшные вести из Франции. Не поддался он отчаянью даже зимою, когда народ втащил на гильотину самого короля, и помазанная мирром голова пала в плетеную корзину под рев толпы.
«Вот галльская кровь и возобладала над франкской, — только и произнес он, отирая тылом ладони побелевшее чело. — Франция не подымется никогда. Неспроста отец пожелал увидеть моею новою родиной ту страну, где никогда не вспенится грязная пена».
«Но вить у нас был Пугач, ты помнишь, меня могли убить маленькою, — возразила Нелли. — Только за то, что я была дворянским дитятею. Убили б и Государыню, кабы до нее добрались».
«Так в том и дело, что не добралися, Нелли, — убежденно ответил муж. — Бунты народные — обыкновенное дело, порожденное несправедливостью миростроя. Но справедливости на земле быть не может, хоть каждому из нас и долженствует к ней стремиться в своих делах. Но бунты захлебываются сами в себе там, где в людях нету внутреннего борения крови».
«Но тартары… Разве они не подмешали дурной крови нам?» — Елена спорила лишь затем, чтоб отогнать мучительное видение: венценосца, для чьей шеи нарочно была подобрана не в пору позорная деревянная колодка. Санкюлоты похвалялись безболезненностью своей адской машины. Однако ж король Людовик умирал, теша толпу своими муками.
«Русская кровь все переборет Нелли, в том нету сомнений. Лишь те могут повредить ей, кто сам не захотел влиться в великую реку. Ну да то едва ль произойдет».
Тяжелые, тяжелые годы. Но из любого пожарища прорастает трава. Теперь все станет хорошо, подумала Нелли, пускаясь через рощицу, окутанную зеленым туманом свежей листвы, напрямик. Слишком уж несправедливо, что лучшие годы их были так мрачны. Вырастет Роман, и вновь оживет покинутый за ненадобностью дом в Сабурове. Забитые досками окна заиграют вымытыми стеклами, вылезет из серого холста чехлов мебель, засверкают бронза и серебро. Пусть то станется еще не скоро, но щасливы вновь они с Филиппом сделаются скорей. А Франция… что ж, она вить далеко, и Филипп никогда не воротится на старую родину.