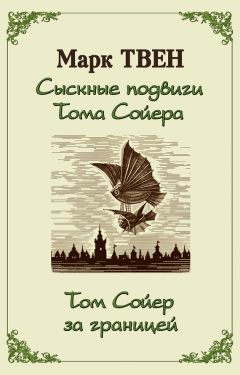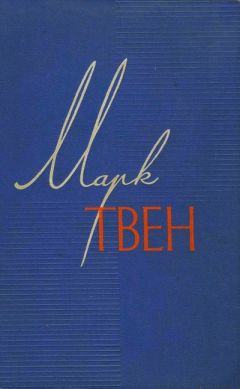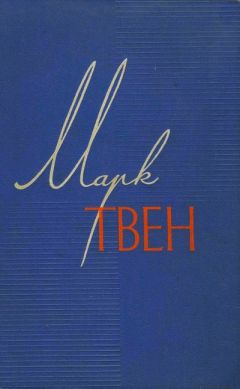Джим был порядком огорошен, да и я тоже. Джим сказал:
– И все эти цифры совсем верные, и не шутки, и не выдумки, господин Том?
– Да, совершенно верные.
– Ну так, жначит, надо иметь уважение к блохе. Я совсем не имел уважения к блохе прежде, но она его требовает – она его заслужает, это верно.
– Еще бы. У блох, по отношению к их росту, больше смысла, рассудка и сообразительности, чем у какого бы то ни было другого существа в мире. Их можно научить почти всему; и они выучиваются быстрее всякого другого существа. Они выучивались возить маленькие повозочки в упряжи и двигаться туда или сюда, или в ту сторону, куда им прикажут; да, – а также строиться и маршировать по команде совершенно правильно, как солдаты. Они вы учивались всевозможным самым трудным и затейливым штукам. Представим себе, что нам удалось вырастить блоху с человека величиной, причем и способности ее росли да росли, становились все больше да больше, все острее да острее, в той же самой пропорции, – что тогда станется с человеческим родом, как вы полагаете? Блоха будет президентом Соединенных Штатов, и вам так же не удастся предотвратить это, как нельзя предотвратить молнию.
– Ей-богу, господин Том, я и не жнал, что они такие умники. Нет, сэр, никогда не мышлял этого, истинная правда.
– Если вникнуть как следует, то блоха даст десять очков вперед всякой твари, животному и человеку, принимая в расчет величину. Она самая интересная из всех. Толкуют о силе муравья, слона, локомотива. Пустое, далеко им до блохи! Она может поднять тяжесть, в двести или триста раз превышающую ее собственный вес, а из них никто не способен на что-нибудь подобное. Мало того, у нее свои мнения, она очень разборчива, и ее не проведешь: ее инстинкт, или рассудок, или как бы там его ни называть, здрав и ясен и никогда не ошибется. Думают, будто для блохи все люди одинаковы. Вовсе нет. Есть люди, к которым блоха не пойдет, все равно, голодна или нет, и я один из них. На мне никогда в жизни не было ни одной блохи.
– Господин Том!
– Серьезно, я не шучу.
– Ну, я никогда в жизни такое не слыхал.
Джим не мог поверить, и я не мог, поэтому мы решили спуститься на песок за новым запасом блох и посмотреть, что выйдет. Том оказался прав. На меня с Джимом они набросились тысячами, но хоть бы одна вскочила на Тома. Объяснить этого мы не умели, но так оно было, и спорить не приходилось. Том сказал, что и всегда было так, и что если кругом него будет миллион блох, то все-таки они его никогда не тронут.
Мы поднялись туда, где похолоднее, чтобы выморозить блох, и оставались там некоторое время, а затем опять спустились и продолжали лететь помаленьку, делая миль двадцать или двадцать пять в час, как двигались уже несколько часов. Дело в том, что в этой торжественной мирной пустыне наша тревога и волнение все более и более стихали, и мы чувствовали себя все более и более счастливыми и довольными, и пустыня нам все более и более нравилась, и мы, наконец, полюбили ее. Оттого-то мы и уменьшили скорость полета, как я уже сказал, и проводили время как нельзя приятнее: то смотрели вниз в подзорную трубу, то валялись на ларях, читали, рассматривали карту. Совсем было не похоже, что мы те самые люди, которым так не терпелось добраться до суши и сойти на землю. Это у нас прошло, совсем прошло. Мы привыкли к шару, нисколько не боялись и не хотели никуда уходить с него. Он даже стал для нас точно родной дом, мне казалось, будто я родился и вырос тут, и Джим и Том говорили то же. Всегда-то вокруг да около меня были ненавистники, придирались ко мне, и изводили меня, и бранили, и обвиняли, и теребили, и приставали, всячески допекали, и муштровали, и заставляли меня делать то, и другое, и пятое, и десятое, и всегда выбирали такое, что мне не хотелось делать, а потом называли меня шалопаем за то, что я упирался и делал что-нибудь свое, и так все время сживали меня со свету. А здесь, наверху, в поднебесье, было так тихо и светло на солнышке, и весело, и еды вдоволь, и спи сколько хочешь, да любуйся на разные диковинки, и никто к тебе не вязнет и не пристает, никаких добрых людей, а все время праздник. Да, я вовсе не торопился уйти отсюда и опять попасть в лапы цивилизации. Одна из самых скверных вещей в цивилизации то, что всякий, кто получил неприятное письмо, приходит и рассказывает вам и нагоняет на вас тоску, а газеты сообщают вам о всевозможных неприятностях, случившихся на свете, и расстраивают вас все время, и огорчают, а легко ли это переносить человеку! Я ненавижу газеты, и письма ненавижу; и будь моя власть, я бы никому не позволил расстраивать своими огорчениями людей, которые с ним не знакомы или живут на другом конце света. Ну, а на воздушном шаре ничего такого нет, и это самое разлюбезное место на свете.
Мы поужинали, и эта ночь была самая приятная из всех, какие я только знал. Лунный свет был точно дневной, только гораздо нежнее; и мы увидели однажды льва, который стоял один-одинешенек, как будто кроме него ничего не было на земле, а тень его лежала на песке рядом, точно чернильная лужа. Это от лунного света так казалось.
Мы лежали на ларях и разговаривали; нам не хотелось спать. Том сказал, что мы теперь в самом центре «Тысячи и одной ночи». Он уверял, что именно здесь случилось одно из самых занятных происшествий этой книги; и вот мы взглянули вниз и смотрели все время, пока он рассказывал, потому что нет ничего интереснее, чем смотреть на то место, о котором рассказывается в книге. Это был рассказ о погонщике верблюдов, у которого убежал верблюд, и вот он идет по пустыне, встречает человека и говорит:
– Не встретил ли ты сегодня верблюда, убежавшего от хозяина?
А человек говорит:
– Он крив на левый глаз?
– Да.
– У него не хватает одного переднего зуба?
– Да.
– А навьючен он просом с одного бока, а медом с другого?
– Да, только не останавливайся на других приметах, – это он самый, а я тороплюсь. Где ты его видел?
– Я вовсе не видел его, – говорит человек.
– Вовсе не видел? Как же ты узнал его приметы?
– Кто умеет пользоваться своими глазами, от того ничто не ускользнет; но большинству людей глаза не впрок. Я думал, что тут шел верблюд, потому что видел его след. Я узнал, что он хром на правую заднюю ногу, потому что он берег ее и ступал ею легко, как показывали следы. Я думал, что он был крив на левый глаз, потому что он щипал траву только с правой стороны. Я узнал, что у него не хватает переднего зуба, по отпечатку зубов на дернине. С одного бока у него сыпалось просо – об этом сказали мне муравьи, с другого капал мед – об этом сказали мне мухи. Я знаю все это о твоем верблюде, но я не видел его.
Джим сказал:
– Дальше, господин Том; это очень хорошая сказочка и самая интересная.
– Это все, – говорит Том.
– Все? – повторяет Джим в изумлении. – А что же сделалось с верблюдом?
– Не знаю.
– Господин Том, ражве об этом дальше не скажано?
– Нет.
Джим недоумевал с минуту и сказал:
– Ну, уж это такая самая плохая скажка, что я хуже и не слыхал. Пришла на такое место, где интерес раскалился докрасна, да и стала. Нет, господин Том, нету смысла у скажки, которая так делает. А может быть, вы знаете, нашел тот человек верблюда или нет?
– Нет, не знаю.
Я сам понимал, что нет смысла в рассказе, который обрывается таким образом, ни до чего не добравшись, но я не хотел говорить этого, так как видел, что Том и без того огорчен своей неудачей и тем, что Джим заметил слабое место рассказа; а добивать лежачего, по-моему, некрасиво. Но Том вдруг оборачивается ко мне и говорит:
– Что ты думаешь об этой сказке?
Тут, конечно, пришлось мне объясниться начистоту и сказать, что я тоже думаю, как и Джим, что сказку, которая останавливается на самой середине и никуда не приходит, пожалуй, и рассказывать не стоило.
Том понурил голову и вместо того, чтобы взбеситься, как я ожидал, за то, что я разнес его сказку, пригорюнился и говорит:
– Иные умеют видеть, другие не умеют, – правду сказал тот человек. Что верблюд! Если бы ураган прошел мимо, вы, тупицы, не заметили бы его следов.
Я не знаю, что он хотел этим сказать, а он не объяснил; я думаю, это просто был один из его вывертов, – он их пускал в ход иногда, если видел, что его прижали к стене, – но я пропустил его мимо ушей. Мы довольно-таки остро высмеяли слабое место рассказа – и он ничего не мог поделать против этого маленького факта. Это огорчало его, как и всякого бы огорчило, хотя он старался не показывать вида.
Караван, оказавшийся мертвым. – Осмотр погибших. – Ящичек, захваченный нами на память. – Мираж и жажда.
Мы позавтракали рано утром и стали смотреть вниз, на пустыню; погода была прекрасная и прохладная, хотя мы летели невысоко над землей. После захода солнца в пустыне приходится спускаться все ниже и ниже, потому что очень быстро становится холодно, и к рассвету вы оказываетесь близко от земли.