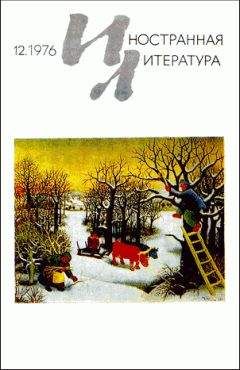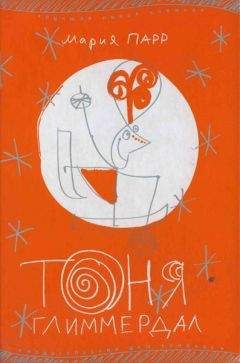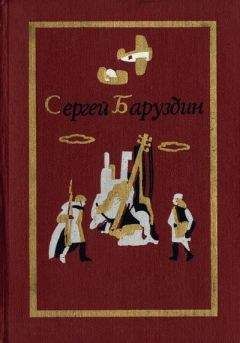Долго выбирал подходящий момент.
Бродил по деревне. И как-то вечером заметил в ее плотно зашторенном окошке лучик света. На цыпочках пробрался в палисадник и просунул тетрадку под дверь. Будь что будет!
Несколько дней я избегал встреч с ней, и хорошо, что Тони не было. Правда, и на реку я не ходил после работы, а если хотелось искупаться, выбирался из дома в темноте, когда на Оке уже никого не было, только светили белые и красные маяки-поплавки.
И вдруг как-то ко мне домой прибегает деревенский мальчишка и таинственно заявляет:
- А тебя учителка наша разыскивает. Ну, Антонина Семеновна.
Я так и ахнул.
"Ну, все! Теперь пропал! И дернуло же меня подсунуть ей эти стихи!"
Мальчишке я, конечно, ничего не сказал, а сам стал еще больше сторониться Тони.
Но на следующий день она сама пришла ко мне. Я вышел на улицу. В руках у нее была газета.
- Хочу порадовать тебя, - сказала Тоня. - Не сердись, что без твоего согласия.
И она протянула газету.
Это была районная газета "Знамя социализма".
Не понимая, я вертел ее в руках.
- На обратной стороне, - подсказала она.
Я перевернул газетный лист и увидел свои стихи. Целых полполосы. Тут были и "Мщение", и "Зенитчикам", и "Партизаны", и "Красная Армия", и "Украина", и "Москва".
- Ну, как? - спросила Тоня. - Доволен?
Я не знал, что сказать.
Посмотрел еще раз полосу. И имя и фамилия, а под ними подпись: "Рабочий совхоза "Семеновский", 15 лет".
"Зачем эти "15 лет"? - подумал я. - Опять мой детский возраст..."
- А за те твои стихи спасибо! - невзначай сказала Тоня. - Хорошие стихи, даже лучше этих напечатанных. Вот только, если еще...
Она не договорила.
Я молчал.
* * *
А война все катилась и катилась на восток. Все уже привыкли к немецким самолетам в небе, и к воздушным боям, которые все чаще вспыхивали над деревней, и к грохоту зениток на станции, и к проходящим через деревню воинским частям, и к колоннам беженцев и тощим стадам, которые тянулись в глубь страны.
Я раз в неделю писал маме, и вот в начале сентября от нее пришло грозное письмо: "...Наш наркомат эвакуируется в Горький, а потом в Куйбышев. Немедленно возвращайся домой!"
Письмо меня ошеломило.
"Какая эвакуация? И зачем мне ехать в этот Горький или Куйбышев? Уж лучше бы на фронт! Или, в конце концов, здесь работать. Как-никак польза..."
Я побежал к Тоне. Постучал к ней в дверь.
Когда она вышла, сразу заметила - что-то случилось.
Я протянул письмо. Она долго читала его.
Потом сказала:
- Надо ехать! - И добавила: - Дай я тебя поцелую!
Она целовала меня как-то горячо и беспорядочно, а я прижимался к ней и думал, что вот-вот разревусь.
Я не плакал, когда в школе, катаясь на перилах, сорвался, пролетев полтора этажа.
Я не плакал, когда летом залез в колючую проволоку и меня вынимали оттуда с помощью ножниц.
Я не плакал, когда прыгнул с крыши двухэтажного дома, сломал пяточную кость.
А тут...
* * *
Немцы вошли в Семеновку в начале октября. Вошли без боя. Наши отступили за Оку, взорвав перед этим железнодорожный мост.
Жители попрятали перед приходом немцев все хозяйство. Лошадей, скот, зерно, овощи. Полуторку сожгли. В поле остались только свекла и капуста.
Колонна немцев - бронетранспортер, три танка и несколько десятков мотоциклистов - прошла через всю деревню и остановилась на площади возле старенького клуба. Из бронетранспортера вылез белобрысый, загорелый обер-лейтенант, а с ним бывший житель Семеновки, преподаватель немецкого языка Иван Карлович Фогель. Несколько недель назад он исчез куда-то, ходили слухи, что его выселили, но вот он вернулся. На нем была немецкая шинель, на рукаве повязка со свастикой, на седой голове фуражка с околышем. Жителей деревни, включая самых древних, согнали на площадь.
Фогель, что-то согласовав с обер-лейтенантом, поднялся на специально принесенную табуретку.
- Слушайте приказ коменданта обер-лейтенанта Кесселя! - выкрикнул он. - Первое: все имущество и продукты вернуть в совхоз. Срок двадцать четыре часа. Работать будете в совхозе только на нужды германской армии. Второе: с девяти вечера до шести утра комендантский час. За выход на улицу - расстрел без предупреждения. Третье, - и тут Фогель почему-то перешел на плохой русский, - я есть ваш староста. Все!
Тоня стояла среди молчавших и лишь изредка мрачно вздыхавших односельчан и собралась уже было направиться к своему дому, но увидела, как туда идут обер-лейтенант с Фогелем, за ними денщик с чемоданом. Она остановилась, замерла на минуту и вдруг рванула влево, к крайнему дому Михеевых. Сам Федор Прокофьевич, их учитель физики, еще в июле ушел в Красную Армию, но в доме осталась жена с ребятами. И Тоня скрылась там.
Ее нашли вечером. Нашел Фогель, пришедший с тремя автоматчиками.
Зло бросил:
- Докомсомолилась! Одевайся! Живо выходи!
Немцы связали ей руки за спиной.
Пока связывали руки, Тоня плюнула Фогелю в лицо. Он успел отвернуться.
- Гад, предатель! - прошептала она.
Фогель невозмутимо улыбнулся:
- Крылышки обломают.
Ее вытолкнули на улицу и повели по деревне. Жители испуганно смотрели на Тоню из окон и палисадников. Немцы шли с автоматами наизготовку, Фогель - держась за кобуру.
Возле ее дома стоял офицерский денщик. Он приоткрыл дверь, и Тоню впихнули туда. Два солдата замерли у входа. Вскоре из дома вышли Фогель и третий немец.
А утром дверь распахнулась, и на пороге оказалась Тоня. Лицо ее опухло, глаза заплыли, на щеках и на лбу виднелись кровавые царапины. Платье под распахнутым полушубком было изодрано.
За ней в сени вошел офицер в расстегнутом кителе и крикнул часовым:
- Лассэн зи зи дурх! Цум тойфель!*
_______________
* Пропустите ее! Пусть катится к черту! (нем.)
А Тоня, ничего не видя перед собой, спустилась с крыльца, открыла калитку, пересекла улицу и, как была, растрепанная - одна коса впереди, другая позади, со свалившимся на плечи платком, - направилась в поле. Фигура ее, медленно покачиваясь, двигалась в сторону леса.
Сотни глаз следили за ней, а она все шла и шла, не оборачиваясь, будто слепая. Она не боялась, что ей выстрелят в спину, да немцы и не решались стрелять. Они сами, как завороженные, смотрели ей вслед.
А Тоня шла. Вот уже и поле осталось позади, а впереди появился кустарник и молодняк, осиновый и березовый. Она скрылась за первыми кустами и березками и вскоре совсем исчезла.
Впрочем, я не видел этого и узнал все много-много лет спустя.
* * *
Есть, наверное, что-то закономерное в том, что к пятидесяти тебя начинает упрямо тянуть в детство твое и юность. Вот и я недавно не выдержал и, не сказав ничего даже домашним своим, направился в Семеновку.
Деревню, конечно, узнать было невозможно. Асфальт. Слева и справа каменные дома - одноэтажные и двухэтажные. На площади Дом культуры, магазин с кафе на третьем этаже, какие-то службы быта.
А в середине площади ограда. Мраморный треугольник со звездочкой наверху и с бронзовой дощечкой: "Комсомолка-партизанка Тоня Алферова, 1923 - 1942".
Чуть ниже на такой же дощечке выбиты слов:
Все пройдет, и зимними порошами
Заметет прошедших весен нить.
Все равно ты самая хорошая,
И тебя немыслимо забыть...
А вокруг в зелени травы еще дощечки. Я насчитал двадцать восемь. На них фамилии и даты. Последняя для всех одна: 1942. Это те, кто освобождал Семеновку.
Я стоял у ограды и, бог ты мой, о чем только не передумал...
ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА
Наш Девяткин переулок был ничем не знаменит. С одной стороны, на углу Покровки, булочная, где мы получали хлеб по карточкам на сутки вперед. Другим концом Девяткин упирался в более интересный Сверчков переулок. Там находился трест "Арарат", из подвалов которого вкусно пахло вином. Его привозили и увозили в бочках огромные ломовики.
В саду мы собирали желуди, до войны просто так, а в войну они шли в дело - варили кофе. Там была и наша школа.
Но именно наше домоуправление в Девяткином переулке отличилось первым. В июле сорок первого, когда начались налеты на Москву, оно объявило набор в добровольную пожарную дружину. В других соседних переулках таких дружин не было.
В Красную Армию нас по возрасту не брали, и потому мы с радостью записались в эту дружину. Все - мальчишки и девчонки в возрасте четырнадцати - шестнадцати лет. Днем мы работали - кто где. Я делал, например, петушки для автоматов в некогда мирной мастерской по производству замков, ну, а по вечерам мы выходили на дежурство.
Нам выдали противогазы, каски, брезентовые варежки без пальцев и железные щипцы, а к зиме и телогрейки. Командиром нашим был сантехник дядя Костя, которого не взяли в армию: у него был один глаз. Второй он потерял на финской.
* * *
Ирина. Ира. Ирочка. Она тоже была с нами в дружине, и это главное. Мы с Ирочкой считались женихом и невестой. С далекого детства. По крайней мере, с тех пор, как в начале тридцатых переехали в Девяткин после взрыва Храма Христа Спасителя. Мы жили в одной огромной коммунальной квартире, только в разных концах коридора. Ира была старше меня на два года, но это не мешало нам играть вместе. Сначала после школы перестукивались по батареям (мы придумали свою азбуку), а потом собирались в ее или в моей комнате. Родители наши находились на работе, и нам никто не мешал. Сначала играли поодиночке - она в куклы, я в машины, попозже наши игры как-то соединились. Помню, мы даже играли в пап и мам.