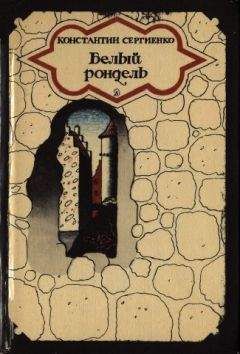Через поле на белой лошади ехал всадник. Он двигался медленно и неровно. Иногда останавливался и объезжал груды тел, разбитые пушки, разорванных лошадей. Конь его вздрагивал, скалился и безумно поводил белками.
В одном месте всадник спешился. Здесь не было травы. Верхний слой почвы, взрытый и перемешанный ядрами, зиял, как огромная черная рана.
Усатый солдат одной рукой обнимал мокрое черное ядро, а в другой сжимал обломок клинка. Он сидел у лафета и хмуро, но торжественно смотрел перед собой. В застывшей слюде его глаз еще светился отблеск боя.
Вокруг него венком сплелись несколько тел. Он сидел среди них по-королевски, казалось погруженный в глубокую думу. Живые капли дождя сбегали по его щекам и падали с усов.
Чуть в стороне лежал молодой офицер в белой рубашке, перепачканный землей и кровью. Его глаза были закрыты. Всадник подошел к нему, ведя лошадь на поводу.
Вдруг веки офицера дрогнули: он был еще жив. Глаза его увидели сначала небо, потом всадника. Он сделал движение губами и попытался поднять руку, но его посеревшее лицо дрогнуло от боли.
– Потерпи, – сказал всадник. – Ведь мне тоже больно.
Офицер прикрыл веки.
Всадник расстегнул мундир, что-то достал из кармана и вложил в руку офицера.
– Возьми, – сказал он. – Это твое.
Офицер сжал ладонь.
– Ты догадался? – спросил всадник. – Ты понял, кто я?
Да, сказало лицо офицера.
Всадник уже сидел на коне.
– Сто тысяч, – сказал он. – На этот раз сто тысяч без малого, я считал.
Он приподнялся в седле и оглядел поле боя.
– Своих я знаю в лицо, – сказал он. – Вот он из моих.
Всадник показал на усатого солдата с клинком в застывшей руке.
– Прощай, – сказал всадник. – Потерпи. Теперь уж недолго осталось.
Он уехал все тем же медленным шагом, зигзагом пробираясь по полю.
Офицер лежал, глядя в небо. Тени, которые метались в сите дождя, казались ему фигурами знакомых и незнакомых людей. Фигуры эти тянулись в небо, взмахивая руками.
Потом судорога пробежала по его телу и глаза закрылись.
Минувшее меня объемлет живо…
А. Пушкин
В то жаркое лето я думал над книгой о Бородинском сражении. Целые дни я проводил в библиотеке, много чигал, выписывал. К вечеру голова тяжелела, тогда я выходил в густеющий воздух Москвы и сначала стоял, прислонившись к теплым гранитным колоннам. Отсюда виднелось тяжелое золото куполов и каменные башни Кремля.
Мимо с мягким шелестом проносились машины, и, закрыв глаза, я долго не мог представить на их месте кареты, которые таким же горячим летом 1812 года, наверное грохоча и подпрыгивая, катили к дому Пашкова на вечерние балы.
Домой я шел не сразу, а долго бродил по московским переулкам. Город затихал, исчезали прохожие, и теплая комнатная темнота облекала улицы.
Внезапно какое-то движение в освещенном окне, острая белизна колонны или загадочный разлет деревьев над крышей возрождали во мне ощущение прошлого. Тогда я останавливался и с пронзительной ясностью понимал, что все это было. Не просто в книжных строчках, не просто в моей голове, а наяву, так же реально, как теперь, когда шаги мои замирают на середине улицы.
Раскаленные за день дома превращались в каменную печь. Быть может, это способствовало иллюзии, быть может, разогретые стены особенно легко источали свои тайны, но запах времени мерещился в старых переулках Москвы, над крышами мезонинов таинственно выглядывала луна.
Странно, но в такие минуты, когда, казалось бы, в пору забыть о настоящем, оно отзывалось во мне обликом Наташи. Движение в освещенном окне становилось ее жестом, за белизной колонны мелькало ее платье, звук ее голоса проносился в голове.
Последний раз я видел Наташу прошлой осенью. Тогда мы поехали в Бородино. Один знакомый, работавший в панораме, зазвал нас туда на празднество годовщины Бородинского боя. Он обещал «незабываемое зрелище».
Помню, с утра было солнце, но, когда мы приехали в Бородино, оно ушло под низкий навес облаков. «Незабываемого зрелища» я не увидел, не увидел самого Бородинского поля. Открытыми остались отдельные части, остальное заросло перелесками и посадками вдоль новых дорог.
Еще со времени чтения «Войны и мира» в моей голове осталась величественная панорама, увиденная Пьером, когда он поднялся на курган. Там был простор и обрамление леса где-то вдалеке, а по всему полю блеск оружия, грохот и дымы канонады.
Теперь я стоял на том самом кургане у памятника Багратиону и тщетно пытался вызвать в себе отзвук былого. Дул сильный ветер, погода все больше портилась. Влево и вправо расходились перелески, только впереди открывался какой-то простор и белела колокольня церкви.
Подъезжали автобусы, торговали ларьки и фургоны. Толпы людей бродили между музеем и курганом Раевского в ожидании начала праздника. Наконец построился военный оркестр, загремели марши, и солдаты в форме двенадцатого года вынесли старые русские знамена.
Потом были речи. Я плохо слышал, потому что стоял далеко от деревянной сцены и порывистый ветер путал и относил звуки в сторону.
Во время этой поездки мы поссорились. До этого я плохо спал ночью, и настроение было неважное. В Бородино я думал только о том, как побыстрее уехать. Наташа, напротив, была оживленна, с интересом осматривалась и слушала экскурсоводов. На кургане Раевского ей что-то долго рассказывал седой человек. Она все время оглядывалась, как бы зовя подойти, но я остался на месте.
Меня раздражало, что она слушает скучных экскурсоводов, с кем-то разговаривает. Я не понимал ее оживления. Мы и до этого ссорились, но так, как в Бородино, никогда. В беспорядочном разговоре сказали друг другу много обидного. Конечно, разговор такой давно назревал. Слишком многое в наших отношениях оставалось нерешенным, и теперь я думаю, по моей вине.
Из Бородино я уехал один, не дождавшись конца празднества. Наташа осталась со знакомым, который в своих заботах не заметил нашей ссоры, а только уговаривал посмотреть представление по своему сценарию, а уж потом ехать на его машине.
В электричке ко мне подсел тот самый седой человек, который разговаривал с Наташей на кургане. Он назвался Артюшиным, полковником в отставке, и стал рассказывать о своей домашней коллекции оружия и документов 1812 года.
Потом он спросил:
– А где же ваша прелестная дама?
Я не нашел ничего умнее, как ответить, что потерял свою даму на поле битвы.
– В прежние времена все было иначе, – сказал Артюшин. – Дамы теряли своих кавалеров на поле битвы. Тому есть впечатляющие примеры.
Он принялся рассказывать длинную и, как мне тогда показалось, сентиментальную историю о Маргарите Тучковой, искавшей своего мужа на Бородинском поле. Я слушал вполуха, но всем сердцем предчувствовал непростую размолвку с Наташей.
Прощаясь, Артюшин приглашал меня в гости смотреть свою коллекцию, которой, видно, очень гордился.
На следующий день я позвонил Наташе, но там не ответили. Звонил еще несколько раз и стал думать, что трубку не берут намеренно. Тогда я не знал, что, вернувшись из Бородино, Наташа уехала по телеграмме домой.
Потом и я уехал на целый месяц, а когда вернулся, меня ждала новость. Хозяйка квартиры, в которой Наташа снимала комнату, сказала, что Наташа взяла академический отпуск и уехала к больной матери. Когда вернется в Москву, неизвестно.
Сначала я ждал письма. Может быть, стоило написать самому, но я не знал адреса, скорее, не хотел узнавать, потому что все-таки ждал, что она напишет первой.
И вот подошло новое лето. Оно навалилось на город жаркое и неуклюжее, как медвежья доха. Обливаясь потом, медленно брели люди. Горели леса и торф в Подмосковье, и вечером горьковатая дымка пожара наглухо запирала город. Старухи во дворе судачили о причинах необычной жары. Температура упорно держалась за тридцать. Знакомый из панорамы сообщил, что такой разгон лето брало только в 1812 году.
Торф, леса, деревянные постройки… Но что-то горело и у меня, выгорало внутри. Не ладились статьи, не ладились отношения с кем-то из знакомых. Я ничего не знал о Наташе, но часто думал о ней. Все больше я понимал, что без нее мне трудно. Я был готов поехать и разыскать ее, но что-то удерживало.
Внезапно я решил написать о Бородинском сражении. Память все время возвращала рассказ Артюшина. Еще раньше попалось стихотворение, в котором упоминался печальный взгляд генерала Тучкова.
В библиотеке я разыскал портреты героев двенадцатого года, а среди них генерал-майора Тучкова. Это правда, выражение его лица полно печали и как бы предчувствия близкой гибели. Но еще больше в этом красивом и тонком лице глубокой, я бы сказал, затаенной любви. Генерал Александр Тучков пал в молодые годы на Бородинском поле, и тело его осталось ненайденным среди тысяч других.
Уже после бегства французов его искала жена. Целый день, а потом и ночь с факелом бродила она в черной накидке среди костров, на которых сжигали останки павших, но так и не нашла тела мужа. На месте гибели она велела поставить часовню, а сама ушла в монастырь.