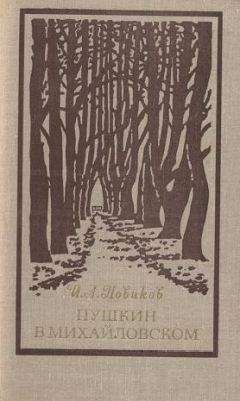местам.
Когда Анечка обнаружила, что беременна, Трофимов-революционер заявил, что теперь не время предаваться буржуазным радостям семьи и, постепенно отдаляясь, однажды совсем оставил Аню – одну и в интересном положении. Вскоре случился выкидыш. Чуть оправившись, она поехала было к тётке в Ярославль, но оказалось, что графиня уехала в Англию "с вещами", как сказал привратник. Тогда Аня разыскала в Ярославле Варю по адресу на её письмах и жила у неё, пока душа не залечилась немного.
Варя же, после отъезда Раневской во Францию, осталась в Ярославле. Ей чудом удалось удержать Гаева от привычных чудовищных растрат вырученных от имения денег и почти силой отправить его в Париж к Раневской, потому что та уж давно не писала. И стала Варя жить, поступив экономкой, сберегая по возможности оставленные Раневской для неё деньги. Это Лопахин помог с работой, где платили прилично: удалось скопить немного. Потом тот уехал из России, оставив Варю окончательно без надежды обзавестись семьёй и в печали. Но когда со своим горем приехала к ней повзрослевшая Аня, Варя возродилась в помощи сестре.
Поправившись, Анечка уехала в Москву, работала с подругой в магазине, а потом обе ушли на фронт, где служили при госпитале. Когда Аня вернулась в Москву, то опять стала искать работу, а это было очень непросто, так как вокруг уже поднималась муть перемен. Благодаря своей грамотности и ухаживаниям одного писаки, получила место в редакции газеты. Когда случился переворот в октябре семнадцатого, газета быстренько заговорила голосами победителей.
Через время Аня навестила хозяйку квартиры, где она жила с Трофимовым. Дама сообщила ей, что её искала мать. С этой новостью не сравнился даже революционный переворот! И Аня принялась за поиски. Помог один знакомый чекист, который, кстати, ещё раньше, оформил потихоньку Ане новый паспорт на фамилию Григорьева, чтобы происхождение не мешало служить в политической газете и жить дальше.
Теперь мать и дочь сидели вместе, взявшись за руки, и тихо, кротко роняли слезинки о покойном Гаеве, о горестях, постигших их двух. Аня отметила про себя, что мать очень изменилась. Не было и следа прежней изящной истеричности и баловства; Любовь Андреевна словно бы стала похожа на тихую монахиню, которая принимает жизнь без ропота и с молитвой.
Они зажили вдвоём. Аня работала в редакции, а Любовь Андреевна содержала их скромное хозяйство в порядке, шила, штопала, стирала. Вскоре пришло письмо от Вари, которое Аня почему-то не захотела показать матери.
– Ничего не случилось, мамочка, – уверяла она, – все живы-здоровы, но… есть новости, которые тебе пока… я потом тебе скажу, когда всё устроится окончательно, ладно?
Аня ласково обнимала маму всякий раз, когда речь заходила об этой тайне двух её дочерей. Так прошёл почти год. Однажды Аня пришла с работы сияющая.
– Мамочка, мы с тобой уезжаем! – сообщила она и нежно, крепко обняла мать, чтобы та приняла перемены так же радостно.
Новости были хорошими, но что-то Аня недоговаривала. Она рассчиталась в редакции, и они поехали в Ярославль к Варе. Раневская обрадовалась, так как давно тосковала по приёмной Вареньке, умной, доброй девочке, – которой теперь уже около сорока?..
Но почему-то Варя не встретила их в Ярославле. Они ночевали у случайных людей, а наутро поехали… на дачи? Сердце Раневской, ранее много лет пребывавшее словно бы в горестном тихом сне, вдруг проснулось и заболело сладко. Оно пело песню пробуждения, оттепели, неизъяснимой любви! Не той болезненной и чувственной, что отдавала она любовнику, а неизмеримо сильнейшей. Перед нею померкли все перемены, ужасы и несуразности нового советского уклада, все эти обстоятельства потеряли своё значение и навечно превратились в придорожный прах.
И сердце рвалось и стонало в борьбе с мыслями: сад продан? Спилен? Давно всё разделено!..
– Господи, – тихо сказала Любовь Андреевна так, как никогда в жизни не обращалась к Богу, даже после смерти Гришеньки.
И Он ответил ей. Такое блаженство вдруг залило сердце, такой покой пришёл, такая благодать. Ощущалось это только как великий дар великого любящего сердца… Тут много страдавшая женщина и поняла, что жизнь – это и вправду сон, а явь – это только жизнь сердца, его безусловная любовь, которая и есть единственный смысл жизни.
Был апрель, снег уже сошёл. Две бывшие хозяйки с бедным чемоданчиком стояли у знакомой изгороди, за которой сиротливо стояла рощица знакомых озябших вишен. Любовь Андреевна кинулась к ним, как мать к своим детям и, плача, что-то говорила, присев прямо на землю и гладя рукою стволы.
Несколько минут спустя она пришла в себя и огляделась. Перед домом, старым их родным домом, на полянке, где раньше обычно выставляли стол с самоваром, словно молоденькие деревца стояли дети, девочки. На них были бедные пальтишки, большеватые ботинки с теплыми носками, на головках платки. Отроки и подростки смотрели молча на странную женщину, что сидела на земле под деревьями, а она смотрела на них.
– Мамочка, – сказал Варин голос, – мамочка родная, это я, Варя!
Дочки подхватили Любовь Андреевну и повели в дом, в какую-то комнату, где её усадили, сняли с головы шляпку, расстегнули пальто. На круглом столе с белой скатертью стоял самовар, Варя с поседевшими висками, чуть располневшая, разливала горячий чай, а Анечка порхала по комнате весело, как и прежде дома…
Как и говорил когда-то Ермолай Алексеевич Лопахин, имение и сад были проданы и разделены на участки. Но года два назад в Ярославле Варю случайно на базаре встретила Дуняша, бывшая горничная, теперь Авдотья Федоровна, – пышногрудая бабёнка лет сорока. Кинулась обнимать Варю и плакать.
Выяснилось, что устав ухаживать за Варей безответно, бывший конторщик Епиходов посватался за Дуню в который раз, и она согласилась. Зажили потихоньку, сын родился, а когда пришли красные, Епиходов неожиданно быстро нашел своё место и теперь возглавил местный в деревне отдел совнаркома. Когда-то сам звал себя "двадцать два несчастья", а теперь изменился, стал увереннее. И не роняет ничего почти на пол. А добрым-то человеком он был всегда.
Когда новая власть стала дачи у собственников отнимать, Епиходов распорядился так: основная большая дача с бывшим домом Раневской и частью сада переходит во владение советской власти. Теперь тут распоряжением совнаркома был устроен приют для беспризорных детей, девочек, которых набрали по округе и поймали в Ярославле на вокзале или на базаре за воровством. Дети воровали от голода, это было ясно. И в 1922 году, окрепнув, советская власть взялась за беспризорников.
Епиходов назначил директором этого небольшого детского дома Варю, а Авдотья попросилась у мужа завхозом. В бывшей хозяйской спальне сделали спальню для детей, в гостиной теперь обедали, в других комнатах устроили классы.
Епиходов оказался не против того, чтобы в своём бывшем дачном доме