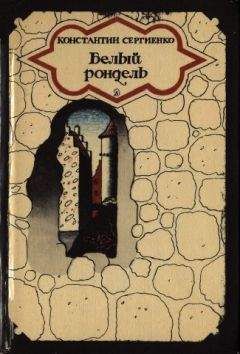На меня солдаты не обращают внимания. Свита приближается. Да, это Наполеон. Он всегда осматривает поле сражения. Солдаты выпрямляются. Один кричит хрипло:
– Да здравствует император!
Другой стоит молча.
Наполеон проезжает мимо, не повернув головы. Он едет прямо ко мне и останавливается в нескольких шагах. Я вижу лицо полководца. Оно похоже на восковой слепок, бледное, с желтоватым оттенком. Оно осело в воротник сюртука, под глазами отеки, черная шляпа надвинута низко. Тонкие губы с опущенными углами, пристальный и в то же время отсутствующий взгляд.
– Кто вы? – спрашивает Наполеон.
Я молчу.
– Это русский! – восклицает кто-то из свиты, и сразу несколько всадников трогается ко мне.
Наполеон делает знак рукой:
– Оставьте его. – Он продолжает смотреть на меня.
– Но это русский, ваше величество!
– Оставьте его, – повторяет Наполеон. – Все кончено.
Завоеватель Европы. Этот человек любил разговаривать с пленными, любил сказать красивое слово на поле боя. Теперь он молчал. Он только сказал: «Оставьте его, все кончено». Что он имел в виду? Сражение кончено? Или внезапным и мрачным озарением он понял, что кончено все и прошлый день стал переломным в его судьбе, в судьбе его армии?
Он поворачивает коня и уезжает, опустив голову. Утром ему доложили, что сорок девять генералов выбыли из строя. Он никогда не считал ни солдат, ни генералов, убитых в сражении, иначе он не был бы великим полководцем. Он видел перед собой только победу и смерть во имя ее считал героической.
Но сегодня, быть может, он думал, что если пойдет так и дальше, то ему просто не хватит ни солдат, ни генералов, чтобы покорить Россию. Он едет среди убитых, не говоря ни слова, и вся кавалькада молчит, опустив треуголки на бледные утомленные лица.
Я тоже продолжаю свой путь. Голова гудит, в сознании беспорядок. Я даже не понимаю, кто я. То ощущаю себя Берестовым, поручиком со странной судьбой, то себя прежним, пришедшим на Бородинское поле, то Листовым, рядом с которым Наташа, то кем-то еще, вместившим в себя сразу всех.
Безотчетно ищу то место, откуда ушел вчера вечером. Ищу наш овражек, оборонявшийся до последнего. Скорее, Белка ищет его, поводья опущены.
И вот нахожу, узнаю его. Тихо ржет Белка. Травы здесь совсем не осталось, верхний слой почвы взрыт и перемешан. По-прежнему мокрая пыль летит с неба, что-то безжизненное проступает и в природе.
Я сразу узнал Федора. Он мертвый сидел у лафета, одной рукой обнимая ядро, другой сжимая обломок клинка. Лицо его было хмурым и торжественным, остекленевшие глаза прямо смотрели перед собой. Капли дождя сбегали по щекам и падали с усов.
Вокруг него сплетение тел. Саксонские кирасиры с пистолетами в онемевших руках, русские драгуны с погнутыми палашами. Ни Лепихина, ни Фальковского я не заметил, быть может, их завалило трупами. Но я увидел Листова.
Он лежал в стороне у последней пушки. Белая рубашка перепачкана землей и кровью, глаза закрыты. Стиснув зубы от боли, я слез с седла и сделал несколько шагов. Мертв? Я даже не мог наклониться. Если наклонюсь, упаду, потеряю сознание.
Вдруг веки Листова дрогнули и приоткрылись. Он был еще жив. Он увидел меня, губы его дрогнули.
Почему умирает он, почему не я? Это несправедливо. Мое назначение так неясно, а у него много дел впереди. У него Наташа.
Медальон в нагрудном кармане. Я говорю себе: часть моей жизни принадлежит Листову, и здесь и в будущем. Ведь это он скакал на Белке впереди батальона во время знаменитой атаки на батарею Раевского. Это ему принадлежит золотая шпага за храбрость, дарованная поручику Берестову. Даже письмо, с которого начались мои приключения, написано ему.
Но это не все. Он спас мне жизнь. Это он стрелял в саксонского кирасира, когда тот занес надо мной палаш. Да, да. Я видел, как он поднимал пистолет, как прыгнул из дула дымок выстрела, как черный саксонец вздрогнул, отшатнулся. Он раскроил бы мне голову, этот закованный в латы рыцарь девятнадцатого века, но рука уже опускалась безвольно, и палаш только скользнул по моей голове. Как знать, быть может, этим выстрелом Листов обрекал себя. Если бы, раненный, он просто лежал у лафета, смерть могла обойти его. Но он стрелял, и кто-то другой кинулся на него с поднятым клинком…
Да, да, так и было. Он спас меня ценой своей жизни. Я бы хотел сделать для него то же самое. Но как?
Я смотрел на Листова. Ты брат мой, ты мое отражение в веках, мы единое целое. Что же, когда-то я не был Берестовым, а стал им, потому что проникся его жизнью. Теперь я проникся твоей, которая уходит. Я проникся всеми жизнями, погасшими на холмистой равнине Бородинского поля.
Листов бледен, он умирает. Чем я могу помочь ему? Я только бормочу:
– Потерпи немного. Мне тоже больно…
Вот детское утешение: «Мне тоже…» Что еще сказать, чем скрасить его последние минуты? Медальон просится из кармана. Быть может, взгляд на ее лицо будет последним успокоением Листову.
Я расстегиваю пуговицы доломана, достаю медальон. Вот оно, крохотное зеркальце времени, в котором я увидел свою Наташу. Тонкая серебряная цепочка горсткой собралась в руке, медальон похож на сплющенное яйцо, расписанное тонким узором, сиреневым, розовым, голубым. Я открываю крышку. Из темно-голубого овала ее лицо смотрит на меня печально и нежно. Сумеречный свет неба кладет на него пепельный оттенок. Несколько капель крохотным бисером падают на эмаль, на ее лицо. Они вздрагивают, как от холода, скатываются к серебряному ободку, где мелкой вязью написано: «А. Берестов».
Наташа… Если предчувствие не обманывает меня, ты где-то здесь, совсем рядом. В белом платке сестры милосердия ты бродишь среди раненых, вглядываясь в их лица. «Сестрица, – стонет кто-то, – сестрица…» Ты поправляешь повязку, даешь воды. Ты гладишь горячие лбы, и эта последняя ласка трепетом отзывается в сердцах умирающих. Они все твои братья. Кого ты ищешь среди них? Меня, Листова? И, может быть, поиск этот будет длиться всегда. Мы будем сходиться и расходиться, встречаться и расставаться, мы будем стремиться друг к другу. Сотни других людей мы встретим на нашем пути и поймем, что они тоже ищут кого-то. Весь мир – это огромное кочевье любящих сердец, которые хотят отыскать друг друга…
Наташа, я бы хотел поменяться с Листовым местами, но пока я могу только отдать ему медальон. Я уже не вспоминаю о своей голове. Я держу в руке плоскую овальную коробочку, внутри которой таится облик его любимой. Я говорю:
– Возьми, это твое.
Я наклоняюсь медленно, тяну руку, в глазах начинает темнеть, по голове словно бритвой. И в тот момент, когда другая рука встречает мою, в сознании вспыхивает ослепительный шар. Потом чернота, я проваливаюсь в бездну…
Проходят мгновения. Не знаю, сколько мгновений. Сознание возвращается. Я вижу себя лежащим у лафета в белой рубашке, перепачканной землей и кровью. Я смотрю на свою раздробленную ступню, я чувствую в груди глубокую рану от сабельного удара. В правой руке я сжимаю маленький предмет.
Взор проясняется. Перед собой я вижу всадника на белом коне. Он в черном мундире с красными шнурами. У него узкое лицо с твердо сжатыми губами. Его глаза горят торжественным светом.
– Ты догадался? – говорит он. – Ты понял, кто я?
Да, отвечаю безмолвно, я понял.
– Сто тысяч, – говорит он. – На этот раз сто тысяч без малого, я считал.
Он приподнялся в седле и оглядел поле боя.
– Своих я знаю в лицо. Вот он из моих. – Он показал на Федора.
«А я?» – попытались сказать мои губы. Он словно понял и взглядом ответил мне: «Ты уже сделал все, что сумел». Белый конь под ним нетерпеливо перебирал ногами.
– Прощай, – сказал он, – потерпи. Теперь уж недолго осталось.
Он тронул коня и медленно двинулся через поле. Его черный с красным мундир, его белая лошадь сияли в дождевой пелене с фосфорической силой. Его взгляд с мощью прожектора рассекал водяную морось и озарял лица павших…
Я лежал с открытыми глазами. Я ни о чем не думал.
В руке я сжимал предмет, похожий на теплый голыш. В груди я чувствовал рану, туда проникал тяжкий холод…
Я ни о чем не думал. Перед глазами низкое мокрое небо. В сите дождя качаются знакомые тени. Они машут руками, зовут. Среди них я пытаюсь вообразить свою звезду, я напрягаюсь, и вот она начинает сиять пронзительным серым осколком…
Жизнь, зачем ты мне дана?
А. Пушкин
Я проснулся в сладкой истоме. Блестящие спицы сена, гнутые, сломанные, перепутанные, пахучим ворохом окружают меня. Я слышу радостный щебет птиц, в щели своего укрытия вижу небо, синее до прохлады, хотя воздух жарок, особенно здесь, в стогу.
Как долго я спал! Я потягиваюсь, рукой откидываю пласты сена и долго гляжу в небо. Там с сумасшедшим счастливым криком вьются малые птахи. Небольшое облачко, крепкое, как фарфоровый слиток, плывет, ослепленное солнцем. Тихо, едва касаясь, пролетает ветерок. Он только поправляет узор ниточек сена и растворяется в солнцепеке.