Сноровкой Гильфан, видно, в мать пошёл. У неё руки были золотые…
Мать Гильфана, наша Фатима, была в девичестве очень красивой. Многие парни вздыхали по ней, увидев её тонкую, как тростиночка, фигурку, изогнутые чёрные брови, алые щёки. Видел бы ты её, когда она спешила за водой, позванивая серебряными подвесками, вплетёнными в длинные косы! Шаги лёгкие, скорые. Держится пряменько и на плече расписное коромысло несёт с двумя вёдрами. Прямо загляденье. Идёт — себе под ноги смотрит, глаза от встречных парней прячет, будто боится кого-нибудь к себе приворожить. Глаза у неё большие, чёрные, как сливы, излучают свет. Проникает тот свет в самое сердце, заставляет его биться чуть быстрее, чем оно билось прежде…
А то, бывало, возьмёт свой кубыз и, едва-едва прикасаясь к нему губами, затеребит медный язычок инструмента длинными белыми пальцами. И такое сладкозвучие польётся, что, ей-богу, в ту минуту чувствуешь себя на седьмом небе!
Напасть подкралась нежданно-негаданно. Заприметил Фатиму, на нашу беду, мулла селения, Исхак. У самого уже три жены, решил Фатиму четвёртой взять. Заслал к нам сватов…
Мы, по правде сказать, растерялись. Не знаем, как и быть. Не грех разве погубить жизнь такой красавицы, выдав за старика? А попробуй-ка отказать мулле, единственному на руднике. И урядник, и исправник — все на его стороне…
А сваты сидят, чай попивают, ожидают ответа. Как же повежливее отказать мулле? Учтиво с гостями беседую, а сам голову ломаю. Фатима — моя единственная сестрёнка. Родители наши давно уже померли в деревне. Кроме меня, никого у неё из близких нет. Если прикажу, и за муллу пойдёт, моими словами пренебрегать не станет. Но мне жалко девчушку… Пришлось попросить сватов повременить. На счастье, они упрямиться не стали — согласились. Но с того дня в нашем доме напрочно поселилась печаль. Я злюсь на себя, что ничего толкового не могу придумать, злость свою срываю на домочадцах. Фатима тревогу затаила, ходит с покрасневшими от слёз глазами.
В один из таких чёрных для нас дней из шахтёрского посёлка Ирминка прибыл на наш рудник работать парень один. Ростом он особым не отличался. Но, скажу тебе, когда работал, из-под рук искры сыпались. Не было такого, чего бы он не умел. Уголь рубить — пожалуйста; если не лучше всех, то и не хуже. Знал толк в купле и продаже. А хлеб какой он умел испечь! Ой-ой-ой, сроду я такого не едал!..
Хоть ростом бог его малость обидел, сложен он был ладно и силищу имел изрядную — любого коногона, что славились в округе мощью, мог схватить за пояс и этак играючи перебросить через себя.
На второй же неделе по прибытии в Голубовку он бросил свой угол, который ему выделили в бараке, и поселился в небольшой избе на краю посёлка. Оказывается, купил. Весёлый дымок завился над его крышей. С этого дня начал он обзаводиться своим хозяйством. В нашем посёлке народу не так-то много, все на виду. Каждый друг про друга знает, кто чем занят.
Прошло некоторое время. Гляжу я, парень этот виться начал вокруг да около нашего дома. И говорю своей Шамгольжаннан: «Неспроста этот ястреб кружит над нами, не иначе как метит унести нашу голубку?» — «Парень вроде бы неплохой, видный…» — говорит жена.
Вскоре до меня дошли слухи, что у парня намерения серьёзные. Обзавёлся хозяйством, теперь собирается жениться. Много охотниц нашлось выйти за него. Но больше всех приглянулась ему наша Фатима. В начале апреля мы поженили их. Как прослышал об этом наш мулла, тотчас прикатил к нам. Распахнул дверь, с порога начал кричать, сам задыхается от гнева: «Где они, эти нечестивцы? Дайте-ка я плюну в их бесстыжие глаза! Я сейчас вымажу сажей их физиономии и ославлю на весь мир! Моего благословения по шариату не получили, молитвы я не читал — значит, нет на их женитьбу соизволения всевышнего! Приведи сейчас же свою сестру!.. Если, страшась греха, она ещё не утеряла чести, то я и теперь согласен с благословения аллаха сделать её своею женой!..»
Я уронил голову, сижу, помалкиваю. С самим собой совет держу. Как у нас говорится, у своей шапки ума выпрашиваю. «Надо поскорее проводить молодых в Юзовку. Пусть у тамошнего муллы и скрепят брак. Иначе этот мулла не даст нам покоя», — думаю про себя.
Абубекира и Фатиму той же ночью отправили на подводе в Юзовку. Пробыли они там больше недели и наконец вернулись, узаконив брак.
Прознав об их возвращении, опять прибежал мулла, красный от негодования, похожий на воинственного петуха. Я ему спокойно объяснил, что мою сестру и Абубекира благословил такой же мулла, как и он. Пришлось Исхаку-мулле проглотить свою злобу…
Тебе, наверно, ведомо — бывают такие собаки, что исподтишка кусают. Подкрадётся сзади — и хвать тебя. Вот и наш мулла очень был похож на такого пса. Стал он всюду, где только мог, сплетни распускать, будто бы Фатима втайне от мужа с другим парнем встречается. От имени того парня написал ей несколько писем с изъяснениями в любви, постаравшись, конечно, чтобы они непременно попали в руки Абубекира. Хитёр был мулла и коварен. Сбил-таки этого простодушного человека с панталыку. Абубекира хоть вини, хоть жалей. Но и понять можно, ежели хорошенько вдуматься: куда ни повернётся — всюду ему про его жену неладное говорят. Поверил злым наговорам. Бросил Фатиму, которая уже на сносях была, и уехал невесть куда. Никому и слова не сказал.
Мы вначале перепугались — думали, может, в шахте завалило. Искали несколько дней. Но, как говорится, земля слухами полнится. Дошли до нас вести, что он в Ессентуках устроился.
Рады, что жив человек, а на сердце всё одно камень. По посёлку — с улицы на улицу, со двора во двор, из дома в дом — ползут-расползаются сплетни. А Исхак-мулла снова изъявил желание заполучить Фатиму в жёны: мол, он прощает ей легкомыслие, которое она якобы проявила по молодости. Дескать, он так обожает её, что согласен взять и с ребёнком.
И вот у Фатимы в самую-то новогоднюю ночь родился на свет сынок. Выходит, уходящий год передал младенца из рук в руки наступившему 1914 году. Рождение ребёнка — всегда большая радость в семье. А моё сердце тревога гложет, хожу и думаю, сможет ли Фатима вырастить одна своё дитя. Время-то трудное. А тут поговаривают, что вот-вот война грянет с немцами. Фатима тоже только и знает, что с утра до вечера, с вечера до утра слезами обливается. Может, и успокоилась бы, но жалобный плач ребёнка не даёт ни на минуту забыть то, что произошло в её жизни. Кто знает, думал я, может, малыш оттого надрывается, что мулла не нашептал ему на ухо его имени?.. Что поделаешь, нанялся я чужой ячмень молотить, чтобы было чем расплатиться с муллой.
Ни за что бы не пошёл к Исхаку-мулле, а тут нужда заставила. Являюсь в дом к нему, объясняю: так, мол, и так, решили ребёнку имя дать, без вас, почтенный мулла, не обойтись. Согласился, хитрец. Назначил день. А как намеченный срок подошёл, сказался больным. Требует, чтобы мать самолично принесла ребёнка к нему. А как послать Фатиму в дом к мулле? У нас теперь не то что к живому мулле — к мёртвому и то не осталось веры. Что ему стоит самому себе прочитать молитву да и оставить сестрёнку мою у себя?! Тем они только и живут, чтобы кривду перед людьми выказывать правдой, а правду — кривдой.
Взял я ребёнка на руки и сам понёс к мулле. Как я и предполагал, никакая хворь муллу не скрутила. Увидел меня и лицо скривил, будто в рот взял кислое. Недовольно насупился, помалкивает.
— Почтенный хазрет, — обращаюсь к нему, — закрепите за нашим младенцем имя, как положено по мусульманскому обычаю. Может, вы в своём сердце держите обиду на нас, но смилуйтесь над своими верноподданными. Похоже, наш малец станет славным джигитом, когда вырастет, и немало пользы принесёт своему народу.
Мулла призадумался, кончик бороды мнёт в пригоршне. Потом повелел положить ребёнка ему на колени. Я исполнил его волю. Он шёпотом прочитал молитву, держа перед собой раскрытые ладони, и, наклонясь к ребёнку, троекратно произнёс ему на ухо: «Гильфан… Гильфан… Гильфан…» Затем повертел головой в разные стороны, пошептал и опустил в карман трёхрублёвку, своевременно приготовленную мной. На этом и закончилась вся церемония. Младенец получил имя.
Я слушаю Халиуллу-бабая, перенесясь мысленно в то время, о котором он рассказывает. Его обыкновенные, простые слова о прошлом в моём воображении обращаются в зримые картины…
До меня постепенно начинает доноситься переливчатая песнь жаворонка. И видится шелковистая ковыльная степь, волнуемая ветром. Без конца и края раскинулась степь вокруг Голубовки, точно море. И вьётся по ней желтоватою змейкой дорога, вползает в шахтёрский посёлок.
Вдоль по улице резво скачет тонконогий жеребёнок с белой отметинкой на лбу. Время от времени оборачивается и ржёт тоненьким голоском — зовёт свою мать-кобылицу. Невдомёк ему, что матери тяжело, что уморилась, оттого и не поспевает за ним, резвуном.

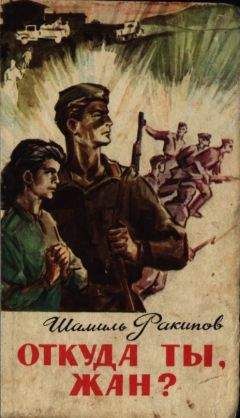
![Анатолий Томилин - Хочу всё знать [1970]](https://cdn.my-library.info/books/195789/195789.jpg)


