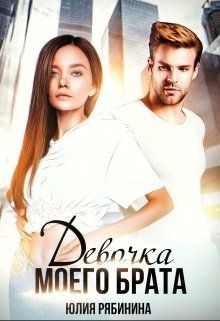грязи, и вместо того, чтобы спасти испачканные вещи, громко рассмеется и измажет жижей все руки по самый локоть. Рэйчел странная, но, услышав что-то подобное в свой адрес, только скромно улыбается и как бы оправдывается: «Не одна я. Все мы странные по-своему». Только ни разу я не видел в этих зеленоватых глазах раскаяние или искреннее сожаление. Она либо по-настощему счастлива, либо очень неплохо притворяется — в последнее мне верится чуть больше.
Теперь даже Робертсон я не могу доверять полностью — не знаю, почему именно. Скорее всего, слишком странная эта ее бесконечная веселость и радость, слишком часто она смеется, чтобы я мог серьезно к ней относиться. Иногда мне и вовсе кажется, что ночью она просыпается с широко распахнутыми от какого-то внутреннего восторга глазами и бросается к окну; затем будит Хлою и, если та ворчит и не желает слушать, бормочет что-нибудь себе под нос и долго еще сидит так с детской улыбкой на лице. Как будто древний скульптор, создавая эту девочку, не удержал в руках тоненькое лезвие и черканул поперек щек, а когда вышло довольно милое создание с широкой линией губ, приподнятых кверху, довольно почесал лысеющий затылок и налил еще одну чашечку крепкого кофе. Да, уверен, так все и было.
Она относится к тому странному типу людей, которые способны полностью себя отдать и посвятить кому-то другому. Кажется, что если у тебя проблема, то эта беда автоматически становится и ее бедой тоже; она посвящает ей все мысли и силы, только бы сделать тебе лучше. Может ли это быть искренним? Неужели так до сих пор кто-то делает?
Я вряд ли когда-нибудь соглашусь с этим. Для меня всегда подобные вещи будут оставаться загадкой. Не поверю и в то, что ради какого-то одного человека можно запросто всего лишиться. Взглянуть на него со своего места на одной из полос сладкой и пахнущей карамелью радуги; перебраться по сахарным облакам вниз, несмотря на то, что руки так и затягивает мягкая вата, как можно ближе к земле, ощущая, будто чистый горный воздух становится все более противным и пресным. Доползти с трудом до самого конца, ни разу не оглянувшись на брошенный навеки под солнцем клочок счастья, и оказаться перед серо-зеленым болотом, заплывшим тиной и какой-то липкой травой. Сделать шаг в эту трясину, чувствуя, как жжет испачканная теплой жидкостью кожа ног, и протянуть утопающему руку, вырвав его из отвратительного плена. А после стоять на земле, пропуская между грязными пальцами мелкие камешки и песчинки, все еще сжимать чужую потную ладонь, глядя на покинутое место на небе, и плакать… только потому, что до безумия счастлив.
Потому Рэйчел кажется мне смешной и наивной. Она слишком часто предлагает свою помощь, каждый день спрашивает о записях в дневнике или личных мыслях, а я… Я говорю, что ничего этого нет, и со мной все в порядке.
Сегодня мы виделись очень недолго, но кое-что все же успело врезаться мне в память, и я выносил эту мысль до самого вечера, стараясь не спутать ее с остальными и не изменить ни единого услышанного слова. Помню, как Робертсон спорила со мной насчет счастья — она утверждала, что каждому дается одинаковое его количество, но мы сами решаем, что воспринимать как должное, а чему радоваться. И я не мог не согласиться, ведь ее речь была такой чистой и солнечной, что хотелось слушать вечно этот голосок и заснуть, чтобы он долго еще звучал в ушах.
Но потом все же обдумал ее слова и пришел к одной интересной мысли. Весьма любопытной для того, чтобы поместить ее сюда, именно на эту страницу. Я подумал о том, что это самое счастье у каждого свое, но и количество его тоже разное. У кого-то оно смешано с кровью почти что в равных пропорциях; вы прокалываете пальчик и получаете густую каплю, содержащую в себе что-то золотое и блестящее. И вам этого вполне хватает, но при необходимости можно и повторить процедуру, взяв чуть больше или меньше. А есть другие люди. Те, кто в отчаянии перерезают собственные запястья, превращая руки в кровавое месиво; они чертят одну линию за другой, а поверх нее еще пару десятков порезов, чтобы, обессилевшие и бледные, в этой огромной луже бардовой жидкости увидеть маленькую золотую капельку, такую желанную, но слишком дорого стоящую.
Догадываюсь, к какому типу я отношусь.
Рэйчел упорно твердит о том, что мое состояние сейчас слишком походит на преддепрессионное, а я и не знаю, как на это ответить. Иногда мне просто кажется, что не каждый понимает слово «депрессия» таким, какое оно на самом деле есть.
Но об этом как-нибудь в другой раз. Сегодня и так было слишком много написано.
Конец записи (03.11.12)»
«Я мог бы слезно извиниться перед самим собой за то, что не написал сюда ни единой строчки за эти пять дней, но у меня есть оправдание. Вернее, нет, но оно довольно сильно перекликается с предыдущим вопросом о внутреннем состоянии, и… я прогуливал уроки. О каком порядке может идти речь?
Но я делал это частично не по своей воле. Сначала Фредерик объявил, что его урок, к огромному сожалению, отменяется, а потому приходить нужно было только к часу дня. То есть появиться в стенах школы на пару часов, а затем со спокойной душой отправиться домой — это было бы слишком просто. Тем более, один из участников нашей футбольной команды убедил меня в том, что учеба не является главной целью этой и без того паршивого существования.
«Успеешь еще наплакаться над этими бумажками. Посмотри вокруг: это жизнь, парень, и она уходит без тебя», — с немного нахальной улыбкой сказал тогда Джон Картер и потрепал меня по плечу.
Следующие прогулы лежат только на моей совести. Но почему-то за них нисколько не стыдно — я не чувствую скрежета внутри или легкой дрожи, когда сбрасываю иногда доходящие до моего слуха звонки одноклассников; меня больше не пугают возможные угрозы Мэг и будущие побои от ее руки. Она слишком занята своими новыми отношениями и позволяет мне столько свободы, сколько вздумается попросить. Такой шанс упускать нельзя. Только не сейчас, когда на душе и без того гадко.
Не знаю, зачем я оправдываюсь таким глупым способом. Может быть прочитаю эти записи позже, когда пути назад точно не будет, пересмотрю исписанные небрежным крючковатым почерком страницы и подумаю про себя: «И вправду не виноват. Его можно было понять, у него