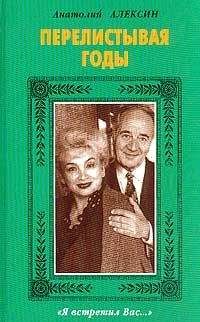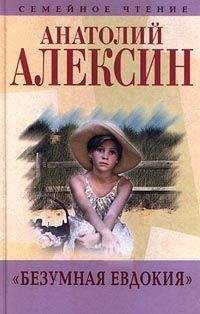ни одним окном прямо во двор и ни одним — прямо на улицу. Потому что окон у нее вообще не было. Безглазая какая-то была комната…
— Свет подвига, — сказала Мура, — ослепительнее заурядного дневного света. Тот лишь освещает, а этот озаряет…
Мура имела в виду, конечно, не озарение светом моего подвига бывшей кладовки, в которой не было окон, а озарение душ членов «Клуба поразительных встреч».
На открытии «Уголка» своего имени я согласно Муриному сценарию — а она по каждому поводу сочиняла сценарий — должен был произнести доклад. Но я где-то читал, что предпочтительнее назвать роман повестью, чем повесть романом. Исходя из этого, а также из того, что краткость по-прежнему оставалась сестрой таланта, я предложил назвать доклад сообщением.
— А еще лучше назовем это просто воспоминаниями… — с плохо скрываемой скромностью предложил я.
— Так поэтичнее, — согласилась Мура.
Прежде чем принять чужое предложение, она еще более заостряла свой и без того обостренно целеустремленный облик. Он как бы вовсе исчезал, а оставалась лишь заостренность.
Лишенная окон и вроде, как я уже писал, безглазая кладовка была пересечена красной ленточкой. Согласно сценарию я должен был вначале перерезать ее — и таким образом молча, но отчетливо провозгласить: «Кладовка — нет! „Уголок“ — да!» Так я и сделал… Рисунки на стенах, исполненные местным художником-шестиклассником, воссоздавали всю историю нашего путешествия на старую дачу, заточения, освобождения и возвращения… Лица наши местный художник-шестиклассник не рискнул воссоздавать кистью или карандашом, а заменил фотографиями. Таким образом, все были очень похожи… На каждом рисунке я был впереди и все следовали за мной. Или с надеждой на меня взирали.
— Ну… к чему-у это? — протянул я. — Ну… к чему-у?
— Ты был впереди там. И ты впереди — здесь, на этой летописи в рисунках! — ответила Мура.
Не шквал и не гром, но все же довольно-таки бурный всплеск аплодисментов был ей ответом. И лишь Наташа Кулагина не всплеснула руками. О, как часто движение двух рук для нас важнее, чем движения даже ста тысяч! Я решил двинуться еще дальше по линии скромности:
— Раз есть эта летопись в рисунках, зачем нужна летопись в словах? Зачем вспоминать то, что и так уж известно?.. Зачем отнимать у нас время, которого не вернешь?
Моим слушателям хотелось домой, и они опять зарукоплескали. А Наташа сомкнула ресницы: «Глаза бы мои на тебя не смотрели!» Что-то ее во мне не устраивало… Но что?!
Накануне встревоженная Мура спросила: «Ты не успел отмыть от дорожной грязи и вычистить свои кеды, в которых преодолевал расстояния в тот исторический день?»
«Не успел».
«И не мой! И не чисти… Отныне они — экспонаты!»
Мои кеды экспонировались посреди комнаты на специальной тумбочке, будто памятник на постаменте. Подпись, сделанная тушью, гласила: «В этой обуви Деткин вел за собой остальных!»
— Видела сапоги Петра Первого… А теперь наблюдаю кеды Алика Первого, — сказала Наташа.
— Почему Первого? — осмелился спросить я.
— Потому что ты хоть и не царь, но царишь!
В ответ я вновь отказался от всяких воспоминаний так торжественно, как отказываются от престола.
Валя Миронова не только безупречно выполняла любые задания, но и категорически их перевыполняла. Поэтому, когда Мура предложила ей прочитать полстранички из дорожного дневника, Валя, как на уроке, подняла руку и спросила: «А це́лую можно?» Перекрывать нормы было ее призванием.
— Какой у тебя почерк? — Мура заглянула в тетрадь. — Крупный?
— У меня нет своего почерка. Я пишу под Алика Деткина!
Она действительно изучила мой почерк и подражала ему. Как раньше подражала почерку Глеба Бородаева… Следовать, подражать, подчиняться вышестоящим тоже было законом Валиной жизни.
— «Ровно в 21 час электричка тронулась, — начала читать Валя. — В вагоне были Алик Деткин, Принц Датский, Покойник, Наташа Кулагина, я и Глеб Бородаев. Алик подозвал Глеба к себе ровно в 21 час 3 минуты. Значит, три минуты он обдумывал предстоящий разговор. Это был допрос: я поняла по лицам, которых было два — Алика и Глеба. В 21 час 17 минут Глеб Бородаев начал, образно выражаясь, поднимать руки вверх».
Это было что-то новое: раньше Миронова образно не выражалась, а была до самого последнего слова верна правде жизни, как учил ее и всех нас Святослав Николаевич. Он учил до тех пор, пока не отправился на заслуженный отдых от нас всех…
— «Наконец Глеб сдался совсем. Это случилось в 21 час 33 минуты».
— Хватит! — раздался голос Наташи Кулагиной. — Вот видите: Глеб не явился на вашу громкую церемонию.
Наташа говорила так негромко, чтобы слышали только Мура и я.
— Да, шумный пир!
— Не иронизируй… Это не к месту, — поправила ее Мура.
— Но к месту уведомить вас, что я запретила Глебу сюда приходить. Он до того запуган, затравлен, что хотел было явиться…
— Почему же ты запретила? И вообще по какому праву ты запрещаешь? Или разрешаешь? Тебя назначили директором школы? — теперь уже иронизировала сама Мура.
— Человека никем не надо назначать… чтобы он поступал честно!
Происходила дуэль. И мне очень хотелось, чтобы она закончилась в Наташину пользу. Даже если это было бы мне невыгодно!
— Хватит взирать на Глеба Бородаева-младшего как на подсудимого… И во всем виноватого человека, — продолжала Наташа. — Он совершил очень скверный поступок.
— Отвратительный, — поправила Мура.
— Пусть так. Но он уже понес наказание.
— В школе сегодня произошло еще одно происшествие. Подозревается Бородаев, — таинственно сообщила Мура. — Это касается как раз твоих белых сапожек на сером меху. Нам сообщила гардеробщица, что они исчезли.
— Исчезли? Потому что они — на мне.
Наши взгляды как бы опустились к ее ногам.
Но Мура не собиралась сдаваться.
— Защищать виноватого — значит подталкивать его к пропасти. Он в тот траурный день взял на мушку сердца всех ваших матерей! А твоей больной мамы, Наташа, в первую очередь. — Наташину маму в самом деле называли сердечницей. — Он хотел погубить молодого специалиста — вашу любимую Нинель Федоровну. Разве можно это так быстро простить? Быстрое прощение есть поощрение!
Я не знал, что Мура способна произносить афоризмы.
— Мы сами создали из Глеба кумира. А теперь обвиняем его в том, что он не оказал сопротивления и двинулся по лестнице славы. Которую мы ему проложили! — возразила Наташа. — И теперь вновь сами ее прокладываем…
— Что ты имеешь в виду? — обострила свой облик Мура.
Наташа, ничего не ответив, с плохо скрываемой грациозностью покинула «Уголок» моего имени.
Но я-то знал, что и кого она имела в виду.
— Какая-то всепрощенка! — Мура опять осталась без всякого внешнего облика, а с одним лишь презрительным заострением.
— Ничего не случилось, — объявила