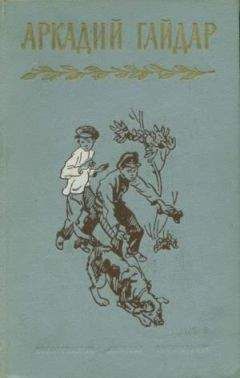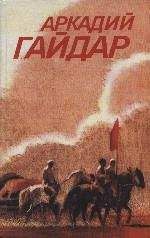Грищенко прыгнул в сторону, как кенгуру. Вслед за манлихером из коридорчика показалась долговязая фигура с поднятыми руками.
Грищенко поднял манлихер и держал его растерянно, как будто это была не винтовка, а дрючок.
— Обыщи, — сказал Володя Грищенко.
— Отскочь, не прикасайся, — сказал долговязый. — От меня винт получил — и меня же обыскивать хочет! На, обыскивай! — Он повернулся корпусом к председателю домкома, который только что вынырнул из темноты.
Председатель домкома, обнаружив неплохую технику кистевого механизма, стал проделывать волнообразные движения вдоль его тела. В этом, собственно, не было ничего удивительного, ибо одесситы последние годы только тем и занимались, что обыскивали друг друга.
Верзила поворачивался перед председателем домкома то спиной, то боком, как на примерке у портного. Тусклый свет фонаря падал иногда на его лицо, и чем пристальнее вглядывался в него Володя, тем больше убеждался, что эти твердые бронзовые скулы не имеют ничего общего с подробно описанной Федькой Быком толстомясой, банной мордой Сашки Червня. «Эта карточка мне знакома, — думал Володя, разглядывая бандита, — но из какого она альбома?»
Верзила между тем повернулся к свету, и Володя понял, что он снова поймал Красавчика.
— Красавчик! — пролепетал Володя совершенно потрясенный. — Как ты сюда попал?
— Добрый вечер, гражданин начальник, еще раз! — Красавчик приложил руку к кепке. — Мы с вами сегодня, как нитка с иголкой: куда вы — туда я, куда я — туда вы.
Этой фразой было сказано очень много. Он давал понять, что признает неуместность при данных обстоятельствах всяких воспоминаний о старом знакомстве двух футболистов. Он не собирается извлекать из них какую-либо пользу для себя. Он понимает, что дружба дружбой, а служба службой. Он произнес эти слова тем полным достоинства, почтительно-фамильярным тоном, которым опытный арестованный всегда разговаривает со своим следователем. Но, не претендуя на поблажки по знакомству, он не собирался отказываться от того, на что имел право по закону.
— Прошу только, гражданин начальник, — сказал он тем же почтительно-фамильярным тоном, — отметить в протоколе этот манлихер. Дескать, вор-конокрад Красавчик, не имея мокрых дел и не желая их иметь…
Продолжая вертеться перед председателем домкома с поднятыми над головой руками, то втягивая, то выпячивая живот, услужливо подставляя еще необысканные участки тела, он объяснил Володе, почему умный вор не пойдет на мокрое дело.
— Мокрые дела умному вору ни к чему, — говорил он. — За мокрые дела шлепают.
Председатель домкома между тем нащупал за пазухой Красавчика какой-то ремень и принялся его вытаскивать.
За ремнем потянулся моток, оказавшийся уздечкой.
— Орудие производства, — объяснил Красавчик, смутившись.
— Манлихер я отмечу, поскольку факт имеет место, — сказал Володя. — Но ты скажи откровенно: как насчет побегов? Будешь еще бежать или нет? Красавчик ударил себя в грудь:
— Побей меня гром, разве ж это был мой побег? Это ж был ихний побег. Берут меня из камеры и дают мне конвой — женщину-милиционера. Это же просто насмешка!
Мы идем по улице, а я себе думаю: меня же люди видят, знакомые! Может, мне даже этой свободы особенно не хотелось…
Председатель домкома фыркнул.
— Ну, чем доказать? Вот могу дойти до этих ворот и обратно. Хотите?
Он сказал это так искренне и горячо, как может сказать только человек, взятый под стражу.
Много времени спустя Володя задумался над тем, что удержало руку Красавчика, когда он, целясь в него из манлихера, решал вопрос: убить или не убить? Только ли холодный расчет опытного уголовника? Не вспомнил ли Красавчик в эту минуту «Черное море», футбол? Не вспомнил ли он, увидев в светлом квадрате входа инсайта «Азовского моря», что сам был когда-то голкипером черноморцев и лежал в их славных воротах, как лежит сейчас на полу в темной воровской «малине»? И тогда, быть может, в нем проснулся добрый лев, не пожелавший убить ничего не подозревающего, беззащитного врага; быть может, он почувствовал обиду за себя, за свою скверную судьбу, понял, что смутное время кончилось и что надо делать окончательный выбор. Но если эти мысли и взволновали его, он постарался скрыть их. Лишь много лет спустя Володя узнал, о чем размышлял Красавчик в минуту, решившую судьбу обоих.
Бандиты стояли в ряд в причудливых позах, изогнув спины и упершись ладонями в стену. Потеряв свободу, они потеряли индивидуальность. Они казались одинаково серыми, покорными и почти неотличимыми друг от друга. У них онемели поднятые руки, чесались спины, и они выли коровьими голосами:
— Гражданин начальник… разрешите опустить руки…
Нытье бандитов прервал грохот автомобиля, полным ходом въехавшего во двор. Это был курносенький грузовичок «фиат» на твердых шинах, битком набитый людьми.
Машина круто завернула, и начальник оперативного отдела с ходу копчиком упал на бандитов. За ним посыпались агенты и менее чем в две секунды бандиты были обысканы с головы до ног.
— Городская работа, а? — подмигнул начальник оперативного отдела Володе, намекая на превосходство городского угрозыска над уездным.
Расшитая золотом кубанка начоперота, алая черкеска, окрыленная пришпиленным к спине башлыком, желтые сапоги с подколенными ремешками и маленьким раструбом вверху голенища, обритая со всех сторон бородка котлеткой, напудренное лицо, наконец бомба-фонарка особенно редкостного, не известного Володе образца — все это производило такое сильное впечатление, что всякому, кто видел этого человека, хотелось ему немедленно сдаться.
Еще через секунду бандиты, подгоняемые агентами, как овцы, толкаясь, лезли в грузовик. Они рассаживались в нем, ворча друг на друга, зло пиная женщин и стараясь захватить лучшие места. Только что потеряв свободу, они хотели тем не менее с удобством ехать в грузовике. Утратив преимущества, которые дает человеку свобода, они сейчас же стали заботиться о мелких выгодах, которые могло дать им заключение. Когда бандиты уселись, начальник оперативного отдела, освещая путь фонариком, устремился в коридорчик. За ним двинулись агенты, целясь в темноту из револьверов.
Первым вынесли Виктора Прокофьевича.
— Сажай, сажай его под стенку, не клади, чтобы юшка через голову не вытекла, — распоряжался начоперот.
Виктора Прокофьевича посадили под стенку, он тихо застонал. Седенькая эспаньолка его потемнела от крови, стекавшей по лицу.
— Кроме черепа, все в порядке, — сказал начоперот, ощупав опытной рукой раненого и с трудом отгибая его пальцы, все еще сжимавшие два нагана солдатского образца. — Вот пример доблести! — добавил он, — Без памяти, голова пробита, а наганов отдавать не хочет.
— Что с ним, как вы думаете? — спросил Володя в тревоге.
— Что я, доктор? — пожал плечами начоперот. — Думаю, добрая жменя стекла в черепе. Один кусок торчит из лба, как рог.
Рядом с Виктором Прокофьевичем положили еще двух: один был без памяти, другой мертв.
Начоперот осветил его лицо