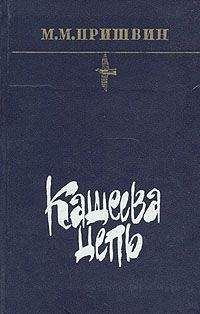— Ну, Марья Ивановна, поздравляю; теперь он проскочил.
— Кто бы думал!
— Мы думаем, а господь по-своему.
И еще, и еще перекрестилась зараз и потому, что бунтарь и безбожник Михаил проскочил, и что показалось близко деревенское кладбище.
В поле, где глазу уже и совсем схватиться не за что и совсем уже было, как будто отец Афанасий, помахивая кадилом, пробирается к небу, остановились наконец среди небольших кустов. Крестов на кладбище почти не было, почти все были повалены летом коровами и свиньями, а кустики почти начисто были обкусаны овцами.
Тут зарыли Гуська, перепелиного охотника.
Ночью нажимает мороз. Утром деревья одеваются инеем. А в полдень разгорается небосвод, исчезает иней, каплет с крыш, дорога сильно буреет, синица поет брачным голосом. Синицу ли русскую слушать после птиц в Булонском лесу!
Вот почему, верно, и не удаются все письма Алпатова к невесте в Париж: как будто раньше его кто-то приходил к этой снежной русской весне, взял от нее все лучшее и оставил ее медленно тянуться в тревожной тоске. Он, однако, не может писать о тоске русской природы и убожестве вековечной работы своей матери в маленьком имении на банк. Он пишет о будущем и рассуждает, доходит до цитат из умных книг. И так обманчиво это писание. В ночной тишине кажется ему во время писания, будто само это маленькое имение движется под напором его мысли и чувства... Так бездарный писатель заменяет себе жизнь бумажной работой; находятся такие же, как он, жалкие читатели, поощряют его, и он верит в себя и так проводит всю жизнь на свободе вместо заключения в больнице для умалишенных.
К счастью Алпатова, далеко до рассвета в коридоре начинается удивительный шум, и весь дом наполняется ароматом ржаной соломы. С детства знакомый таинственный шелест и чудеснейший в мире аромат побеждают раздумье над этим чудовищным для европейца хозяйственным преступлением — сжигать вместо дров солому, силу земли выпускать в дымозую трубу. Привязанность с детства к этому шелесту, к этому аромату столь велика, что обращается не только против агрономического раздумья, но и против умственных писем к невесте. Перечитав написанный вздор, он идет в коридор, совершенно заваленный, и в печке вместе с соломой сжигает всю исписанную за ночь бумагу. Родная ржаная солома в этот раз спасает Алпатова и внушает ему решимость немедленно ехать и достигать не бумажного, а действительного положения.
— Ехать так ехать, — сказала ему за чаем Марья Ивановна. И тут же распорядилась запрягать лошадей. — Стало быть, — сказала она, — положение вы считаете все-таки необходимым. Это что же, она поставила тебе такое условие или вместе надумали?
Как ни мучительно было Алпатову ответить, но все-таки почему-то было и приятно, чтобы мать как можно лучше думала о его невесте. Он сказал:
— Да, это она поставила такое условие.
— Умно, очень умно. Только одного я не понимаю, зачем она тебя в этот гнилой Петербург тянет, лучшие люди у нас теперь собираются в земстве: болота есть недалеко и от нас, поступай в земство и осушай. Болотный ценз можно по три рубля за десятину купить. Поступай сначала инженером, пролезешь с цензом в члены управы, будешь получать и как инженер, и как член управы: это уже будет довольно кругленькое положение.
— Нет, мама, ты себе не так представляешь, мне нужны огромные пространства болот, чтобы развернуться, и не земские, а большие государственные средства. Придется, может быть, для этого дойти и до царя. Вот у меня какой план.
— Такие планы, знаешь ли, Миша, родятся у многих, у нас никто не хочет работать и достигать положения постепенно, одни только латыши да немцы.
— Я знаю, как немцы работают, я ученик немецкой школы.
— Это большой плюс. Но все-таки в таком деле необходима протекция.
— Она у меня есть, отец моей невесты в лесном департаменте, действительный...
Надо бы сказать затем статский, но Алпатов сказал тайный советник. Такое бывает со всеми и потом с большим стыдом вспоминается.
— Ну, тогда картина совершенно переменяется! — воскликнула Марья Ивановна. — Помню, когда тебя в тюрьму посадили, одна только Калиса Никаноровна меня успокоила. «Поверьте, Марья Ивановна, — говорила она, — из таких потом выходят самые умные люди». Софья Александровна каких только бед не сулила, а теперь говорит — «проскочил».
Алпатов посмотрел внимательно на мать, не смеется ли она над ним. Но нет, она просто радовалась.
— Боюсь, мама, ты не совсем верно все понимаешь мое, — помню, когда я был маленький, ты говорила кому-то из наших народников, вероятно, Дунечке: «Почему-то русские писатели всегда описывают униженных и оскорбленных, как будто нет у нас победителей». Мне это глубоко запало в душу, и, верно, потому я терпеть не могу народников. И наши писатели большей частью народники: их привлекает ленивый раб-мужик. Но почему никто не опишет человеческий труд в его достижениях: наш Николай Иванович в слободе гармоньи чинил, а теперь у него миллионы. Писатель свободен, он может посмотреть на это с лучшей стороны. Вот и я так хочу победить. После я вернусь к общему делу, но раз поставлен вопрос, быть или не быть, я хочу счастье свое завоевать, перед этим должно все отступить, и живой я не сдамся.
Марья Ивановна потемнела в лице при последних словах.
— Только не преувеличивай, Миша, и не будь чересчур скор, ведь это я говорила о романах, что хорошо бы нам от униженных и оскорбленных отдохнуть на победителях, а в жизни победы даются годами, и часто о своих победах сами победители не знают до конца своих дней. Вот хотя бы и Николай Иванович: всего себя и убил на достижении богатства, дети идиоты, после него все пойдет прахом. Если по большой правде говорить, то какой же он победитель!
— Я, мама, не о большой правде говорю — я о своей маленькой, без этой маленькой правды ведь жить нельзя, я у немцев не чужими глазами смотрел, я же видел, как они своей коротенькой правдой преобразили всю свою землю. Без своего личного устройства стыдно людям даже в глаза смотреть, а не то что проповедовать большую правду. Я ничего не утратил из того, за что сидел в тюрьме, ты вот знаешь — земля перейдет мужикам — и все-таки не бросаешь ее, а я знаю, государственная власть перейдет в общее дело, и еще много знаю всего, но не могу жить в этом без себя самого...
Не часто жизнь баловала Марью Ивановну такими душевными разговорами с сыновьями, и она была счастлива, и все, что говорил ей сын, казалось таким верным, как будто он высказывал ее же затаенные мысли. Но тревога материнского сердца не считается с верными выводами: было, казалось ей, в словах сына какое-то слишком повышенное отношение к коротенькой правде, к тому, что само собой разумеется, о чем люди молчат, что растет и созревает у людей, все равно как у животных и растений, и достигается больше способностью ждать, чем стремиться. Опасливо посмотрела Марья Ивановна на сына, как на маленького ребенка, бывало, на беззащитное существо, открытое для жестоких ударов со всех сторон. Этот внутренний опасливый взгляд матери Алпатов хорошо знал, и всегда он вызывал в нем желание защитить себя от него логическим доказательством. Теперь он истратил все свои аргументы, и все-таки таинственный, недоверчивый взгляд матери почивал на нем, как и в детстве. Чем бы его теперь победить? Мать говорила:
— Я радуюсь всему, что ты говоришь, все верно, только одно тревожит меля: ты преувеличиваешь значение своего личного счастья. Посмотри на меня, я всю жизнь вдовой работала на банк в глуши и все-таки не могу сказать, чтобы несчастна была. Счастье само приходит, а ты за ним гонишься.
— Понимаю, — воскликнул сын, — в этом расходимся мы, в этом новое время сказалось, у вас этого не было.
Услыхав «новое время», Марья Ивановна сказала:
— Ну да, конечно, мы по заграницам не ездили, мы учились на медные деньги.
А уже давно сказали, что лошади поданы, и Марья Ивановна терпеть не могла заставлять кучера зря сидеть на козлах перед крыльцом, вида этого не выносила. Надо было торопиться, но нельзя было расстаться в момент столкновения счастья нового времени и этой жизни на старые медные деньги. И сыну, и матери хотелось поскорее найти из этого выход. Вдруг мать что-то придумала.
— Миша, — сказала она, — мы сейчас должны расстаться, бог знает когда еще прилетит ко мне опять соловей, я же хорошо понимаю, откуда идет вся твоя перемена: все от нее. Скажи на прощанье мне, старухе, кто она.
— Да я же тебе говорил, — удивился Алпатов, — ты же мне сама сказала: «У тебя губа не дура».
— Как ты не понимаешь, Миша, ты мне говорил о ней вообще.
— Что же тебе надо еще?
— Ну хотя бы, как зовут ее...
Алпатов очень смутился, но вдруг ему мелькнуло: сказать — это значит победить все сомнения матери о нем в его охоте за счастьем. И ведь рано или поздно — он победит, и достигнет, и все откроется...