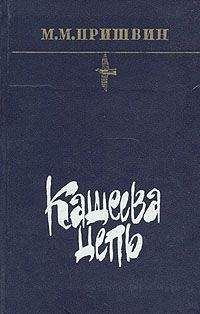— Я скажу тебе, мама, — ответил он, — только под величайшим секретом, дай мне слово.
Марья Ивановна, почуяв, что дверь открывается, не обратила даже внимания на какой-то секрет, на какое-то честное слово, она, просияв, сказала:
— Знакомая?
— Да, — ответил Алпатов. Сияние матери усилилось.
— Мне кажется, я догадываюсь... Инна Ростовцева?
И когда сын ответил и догадка оказалась верной, мать сияла, как солнце.
На дворе усадьбы довольно было простора пошалить лошадям, запряженным гуськом, поработать арапником кучеру, осыпающему их и бранными, и ласкательными словами, совершенно как если бы эти существа с хвостами и гривами хорошо понимали русский простонародный язык. Но как только выбрались со двора на ту самую рыжую дорогу, по которой недавно унесли Гуська на кладбище, передней лошади стало невозможно вилять: снег всю зиму валил без осадки, и даже рослому коню в нем было почти что по самую шею.
Было очень пасмурно. Снежная земля и небо совершенно сливались, и рыжая дорога на слегка уже оседающем снежном поле, выпуклая, как железнодорожная насыпь, отчетливо и вполне определенно поднималась в небо... Алпатову захотелось крепко подумать о большой и коротенькой правде, о своей охоте за счастьем, но в полях без горизонта мысль расплывалась, а рыжая дорога возвращала к детству, к Гуську с его перепелами. Но как только он закрыл глаза, ему представилось, будто он едет не вперед, а назад, и он стал думать об этом странном явлении, стараясь установить в себе разумное соответствие с действительностью. Из этого усилия явилось нелепое представление лошадей, бегущих хвостами вперед, в саней впереди их. Он стал упрямиться: «Ни за что не открою глаза, пока не докажу себе разумно движение вперед». И когда он твердо установился в борьбе с обратной силой движения, случилось еще хуже, чем было: он все забыл...
Кто много ездил в санях по снежной стране, наверно, хоть на одно мгновенье испытывал и чувство этого обратного движения, и особенно страшное, когда вдруг оказывается — человеку нечего вспомнить о себе самом... Я обыкновенно в такие минуты или больно кусал себе язык, или заговаривал с кучером: «Ну, Глеб, расскажи мне, как теперь ты живешь?» Алпатов перестал сопротивляться, открыл глаза. Движение вперед сразу определилось, но мало радостного было и в этом движении: рыжая горбатая дорога поднималась на скучное небо, где покойники лежат совершенно забытые. Алпатову, как и всем нам, едущим по таким бескрайным снежным полям, пришлось отказаться найти определенную мысль о себе и обратиться к кучеру с каким-то самым нелепым вопросом. И только уже когда наконец-то доехали и поезд понес его в Москву, наладилось соответствие внешнего мира с внутренним и Алпатов вернулся к мысли своей о большой и коротенькой правде. Он даже себе план придумал побыть в Москве несколько дней и тут перед поездкой в Петербург посмотреть не прежними детскими глазами, а новыми, как иностранец, что же такое особенно хорошее сравнительно с европейцами нажили русские люди в Москве, исполняя законы естественной коротенькой правды.
И, вернее всего, этот влюбленный молодой человек увидел бы на родине какую-то прелесть, — почему же столько иностранцев навсегда остаются в Москве? Но не успел он устроиться в своем номере, хорошенько чаю напиться, его попросили явиться в охранное отделение.
Его спросили, тот ли он Алпатов, который устраивал школу пролетарских вождей, сидел за это в тюрьме, по особому ходатайству был отпущен за границу и теперь явился сюда без разрешения въезда в столицу.
Бывало, в прежнее время Алпатов был так находчив в ответах жандармам, теперь он растерянно спрашивает:
— Вот этого я и не знал, ведь это было уже так давно, стало быть, мне нельзя жить в столице, как же так?
— Я не говорю, что нельзя, — улыбнулся жандармский полковник.
И подвинулся к Алпатову так близко, что коснулся его ког своими жирными ляжками в синих штанах.
— С вашим старинным другом Ефимом Несговоровым не встречались ли вы за границей?
— Нет, я его там не видал.
— Неужели ни одного разу?
— Ни разу.
Больше ничего бы и не надо говорить, жандарму спрашивать было нечего. Но верней всего эта мысль о коротенькой правде и готовность в этом делать опыты смягчила Алпатова, и он сказал жандарму совершенно ненужную фразу:
— Я все время за границей провел в упорной работе. Жандарм почему-то очень обрадовался.
— Очень, очень похвально, что же теперь вы намерены делать в России?
— Конечно, применять свои знания.
— Применять, применять! — добродушно воскликнул жандарм. — А на чем же применять?
— Я торфмейстер, у нас такие болота, буду осушать. С полной искренностью и сочувствием опять воскликнул жандарм:
— Осушать, осушать!
И предложил даже сигару.
В сигарах Алпатов кое-что понимал, и ему захотелось продолжать свои опыты: жандарм такой добродушный, почему бы и не покурить.
— Бразильский лист? — спросил он.
И так он обрадовал полковника: так мало людей, понимающих толк в хороших сигарах!
— Это мексиканский лист, — сказал он. И бросился к ящику... Пожалуйте, вот вам и бразильский. Раньше я тоже был страстным поклонником бразильского листа, теперь перехожу на мексиканский.
Поговорили о сигарах, — что в Германии в этом отношении очень хорошо, но в Париже из рук вон плохо, а в России за деньги можно такое достать, чего нет в Германии. С деньгами в России можно что угодно достать, и если только умеючи жить, денег в России для умного человека найдется сколько угодно.
Под конец Алпатов, вставая со стула, — жандарм тоже встал, — спросил, как же дальше быть: ему теперь в Петербург надо ехать, не будут ли там его тоже беспокоить.
— Будут-то будут, — ответил жандарм.
— Как же выйти из такого положения? Полковник задумался.
— Вот что, — сказал он, — вы же в Петербург зачем едете, наверно, устраиваться?
— Да, я вам сказал, я затеваю большое дело с осушением болот, мне там надо получить назначение.
Полковник чрезвычайно обрадовался.
— Осушать, применять, — воскликнул он, — самое разлюбезное дело! А пока они о вас за границей будут справляться, вы создадите себе в Петербурге отличное положение.
Да, вот так сказал и жандарм: положение.
И с этим Алпатов вышел на улицу.
Будь он свободен в себе, как не раз бывало ему за границей в промежутках упорной работы, конечно, он зашел бы в Кремль; очарованный, долго бы оттуда сверху смотрел на Москву, отличая тут великое движение Востока на Запад, и сокрушающие победы Запада, и беспричинное сияние Востока. Теперь ему было не до того: последние слова жандарма о положении все перемешали в нем. Расстроенный, он обратил только внимание, что огромные зеркальные окна магазина Елисеева на Тверской были почему-то мутные. Он даже провел пальцем по стеклу и оставил резкую линию: то была, значит, пыль. Но мало того, что пыль; вокруг были снега, и, значит, пыль на зеркальных окнах роскошного магазина оставалась еще с прошлого года! Неприятно было ему, и что московские люди на узкой Тверской так сильно размахивали руками, что иногда задевали. Один раз возле витрины магазина кто-то сзади привалился к нему. Какой-то старик, пробиваясь сквозь толпу, назвал его дьяволом. Кто-то хлопнул его сзади со всего маху по плечу и, когда все разъяснилось, даже не извинился, а просто сказал: «Я вас за Ивана Петровича принял».
Все это нам привычное и такое смешное мало-помалу начало бить в Алпатова, как бьет капля воды с крыши в камень и на камне через множество лет от этого получается углубление, — у Алпатова теперь уже в сердце было что-то размыто и там скопилось непрерывной ноющей болью.
Но самое главное, что эта ноющая боль, все более и более ввинчиваясь, с одной стороны, перешла в точку почти физической боли, а с другой — именно в этой точке и помещалось свое собственное «я», как будто в чем-то виноватое.
Когда-то Алпатов, чутьем угадывая это состояние у других, глубоко его презирал, называл «самоковырянием» и думал — каждый, если захочет, может выйти из такого порочного круга усилием собственной воли. Теперь он сам был в плену. Раньше Кащеева цепь, ему казалось, была в мире внешнем, огромная цепь, теперь не цепь, а цепочка завертывалась вокруг своего «я», и эта цепочка оказалась сильнее, чем вся великая цепь. Мало помалу, ничего не видя вокруг себя, он заметил в ужасе, что мысли его, и боль, и даже все внешнее, что попадалось в глаза, и особое новое чувство своей вины, протекая кругом, начиналось, как танец от печки, и эта неподвижная печка была положение, а конец — по больному месту острые слова: «я» — маленький.
В номере он с удивлением вспомнил о своем решении несколько дней шататься без дела в Москве. Теперь только поскорее бы уехать отсюда подальше, в Петербург, и там начать все по-новому, по-настоящему. Только перед этим захотелось ему снова избавиться от проклятого самоверчения, рассказать об этом искренно другу в письме.