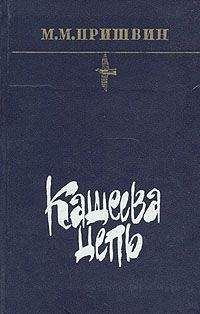В это время из кабинета вышел посетитель в мундире с учеными знаками, и лаборант, пригласив Алпатова к двери, шепнул:
— Будем надеяться на лучшее!
Его превосходительство бессменный секретарь Ученого комитета лесного департамента Петр Петрович Ростовцев сидел за большим письменным столом, заваленным горою бумаг. Была видна входящему в кабинет только пепельная голова с желтым лицом. Взглянув на прекрасный лоб Петра Петровича, Алпатов сразу узнал происхождение закрытого локонами лба своей невесты и почтительно, гораздо усерднее поклонился, чем если бы перед ним сидел не отец Инны, а просто действительный статский советник. Но Петр Петрович даже и головы не поднял, а только указал рукой на стул. Алпатов сел и замер. Петр Петрович погрузился в работу и о просителе совершенно забыл.
По длинным корректурным гранкам быстро гуляла рука с красным карандашом, одна рука красила, другая синила. Мало-помалу весь лист сделался похожим на трехцветный флаг из белого, красного и синего. После того рука берет пачку каких-то картинок, выбирает из них подходящие, иные пришпиливает к флагу-листу, иные наглухо приклеивает синдетиконом. С одной гранкой было покончено, началась другая, Алпатов кашлянул, и Петр Петрович поднял на него свои усталые и очень добрые глаза.
— Я, ваше превосходительство, пришел к вам посоветоваться...
— Рассказывайте, слушаю, — ответил Петр Петрович, снова погружаясь в работу.
Алпатов побоялся упустить Петра Петровича и поскорей протянул ему руку с бумагой.
— Вот мой диплом. Я иностранный инженер. Хочу просить вашего совета, можно ли мне как-нибудь устроиться на живую работу.
Петр Петрович взглянул и просиял.
— Торфмейстер! — воскликнул он. — Да вас ко мне прямо же бог прислал. Помогите мне, а потом я вам все сделаю. Садитесь удобнее.
Оказывается, русские ученые не умеют писать для энциклопедии и надо у них из десяти слов оставить два-три, а то и всю статью самому изложить по-другому.
Алпатов с удовольствием берет корректуру статей о торфе, усердно красит, синит, переписывает вновь и наконец показывает.
— Что значит немецкая школа, — восхищается Петр Петрович, — наши растрепы могут только выдумывать, а вещь показать — это не их дело. Я в вас как будто alter ego [Второе я (лат.)] нашел. Но в чем же дело, в чем я могу вам по-мочь?
— Я ищу живую работу, чтобы жить не надвое — для службы и для себя, как тут все живут, а целиком отдаться интересному труду.
— Понимаю, — грустно и ласково сказал Петр Петрович, — что вы хотите создать лучшее.
Конечно, Петр Петрович это совсем просто сказал, но у Алпатова это «лучшее» соединилось с тем, что он слышал от своей невесты: «Помни всегда, я отдала тебе все свое самое лучшее».
— Вот верно-то, — воскликнул Алпатов совершенно по-детски, — именно лучшее.
Петр Петрович с удивлением опять повторил:
— Право, я, кажется, в вас alter ego нашел. В свое время я тоже, как вы, хотел цельного дела, хотел быть только фаунистом, воображал себе даже, что и жена моя тоже будет зоологом. А вот теперь, видите, как во всем разделился надвое.
Алпатов с глубоким сочувствием и искренним состраданием смотрел на Петра Петровича.
— Да, — сказал он, — я только теперь понимаю, что моей главной задачей будет не разделяться.
— Как же вы думаете этого достигнуть? — спросил Петр Петрович. Извините меня, я спрошу: вы не женатый?
Алпатов покраснел и не знал куда деваться. Петр Петрович даже глаза отвел. Потом Алпатов справился с собой и рассердился даже:
— Я не женат, но какое же это отношение имеет к нашему делу?
— Не сердитесь, милый мой, — ласково сказал Петр Петрович, — в большинстве случаев наше лучшее зависит только от этого...
— Я сам так думаю.
— Вы можете всячески думать, но беда...
— Никакой беды, беда у сильного человека — это вызов к борьбе.
— Скажите... — улыбнулся Петр Петрович, — вы не совсем уже юноша и отличный работник, до чего же, значит, можно за границей консервироваться. Кроме того, я думаю, вы происходите прямо от матушки сырой земли...
Алпатов вспомнил, что рассказывала ему Инна об отце, что сам он из купцов, был Чижиков и стал Ростовцевым и потом для графини своей стал генералом. И почти с гордостью он сказал:
— Я происхожу из купцов.
— Так я и знал, и еще догадываюсь, — наверно, вы до заграницы бунтовали...
— Как это вы можете догадываться, ваше превосходительство?
— Очень просто: никто из приходящих ко мне за местом в департаменте не говорил еще мне: «Беда — это вызов к борьбе». Только не думайте вовсе плохо о бюрократии: Петербург высасывает из страны все лучшее, и оно уже потом здесь хиреет. И если с этим вздумать бороться, то надо уничтожить весь Петербург.
— Вы забыли, ваше превосходительство, я с самого начала сказал, что ищу живого дела, понимая, конечно, на болотах, а не в департаменте.
— Вот это верно, — обрадовался Петр Петрович, — если есть охота работать в болотах, то это мы с вами можем устроить. Но, конечно, не сразу. Есть ли у вас хоть что-нибудь пока перебиться? Для существования вы можете подработать у меня в энциклопедии; мы разделимся с вами: я себе возьму редактировать фауну, вы — флору.
Алпатову хотелось броситься на шею Петру Петровичу: ведь он будет работать у него по ночам в той самой квартире, где выросла Инна!
Лаборант показался в дверях. Петр Петрович весело ему сказал:
— Ну идите, идите сюда, молодой человек, мы тут вот сейчас заключили союз флоры и фауны.
Алпатов в приемной подождал лаборанта и все ему рассказал с восхищением: ему даже и не снилось, чтобы были такие превосходительства и такой департамент. Лаборант соглашался с ним, но про себя думал: все это выходит потому, что Алпатов приехал из Германии.
Потом был Алпатов на Невском проспекте под вечер, когда на нем все кипит и бурлит. Зажигались лампочки. Начинался снег. Уйти, оторваться не хочется. Долго смотрит Алпатов на цветы за огромным зеркальным стеклом. Снег падает, а там целое дерево цветущей сирени. Но лучше всего одна вазочка в ювелирном магазине, небольшая античная вазочка с гением прельстила его. Она ли, такая совершенная сама по себе, взяла его в плен, или раньше того пришла ему в голову прекрасная мысль и случайно сошлась с формой изящного сосуда. Вот он что-то придумал. Поскорей бы только добежать к себе и написать это своему другу.
И он пишет в дешевых номерах Пименова на Пушкинской улице, рядом с банями того же Пименова, представляя себе вместо женщины маленькую вазу с гением.
«В какой пленительной силе встает теперь моя первая детская встреча с природой, и каким прекрасным кажется мне родной человек в родной стороне! Вспомните же, друг мой, я настаиваю, я буду радостно трудиться изо дня в день, чтобы вы наш брачный день приняли навсегда как единственную творческую силу природы, все, что мы называем неопределенным словом «любовь». Соберите же черепки вашей расколотой жизни, уверяю: есть на свете живая вода, я найду ее, и она опять даст черепкам форму единого прекрасного сосуда!»
На Невском была суматоха. Коты с финскими ножами в карманах, встречая проституток, говорили им: «Облава! облава!» — и незарегистрированные женщины бросались в боковые полуосвещенные улицы. Особенно удобно было им пережидать облаву на Пушкинской возле номеров и бань Пименова: тут можно было и спастись от облавы, и замарьяжить кого-нибудь в номерах или банях.
Но Алпатов и не подозревал, что он поселился в вертепе. Какое дело ему было до всего этого низкого, когда он так ясно видел само лицо жизни в форме античной женственной вазы с гением. Он бы и долго писал, и пропустил бы назначенный час для ночной работы в квартире отца своей невесты. Но ветер, как часто бывает в Петербурге, вдруг переменился, сильно повеяло теплом, и с грохотом обрушился снег. Алпатов очнулся, посмотрел на часы, запечатал письмо и вышел на улицу. Проститутки десятками бросились к нему, называя красавчиком. Некоторые были пьяны, хрипя и отхаркиваясь, тоже предлагали любовь, преследовали, хватались руками за пальто. Алпатов пробивался через их толпу с таким чувством, как на войне нам, живым, приходилось быстро ехать по полю, усеянному трупами: не так было страшно, как описывают, забываются страшные трупы, когда самому очень хочется жить...
...Друг мой, в любви нашей, конечно, скрыта воина, и улицы большого города политы гораздо больше нашей кровью, чем поля обыкновенных сражений. Ночью на улицах бой, днем идем мы все как последствие великой войны: мы, победители и побежденные. Но редко доходит до того, чтобы всех сразу коснулась война. В мирной жизни все проходит невидимо, как у маленьких животных в густой траве. Но мы были свидетелями, когда война всех коснулась и потом улицы большого города начали было даже покрываться действительно настоящей зеленой травой: во многих местах на Васильевском острове, где я жил, это было. Но скоро снова человек все взял в свои руки: опять везде загорелись огни, опять начали везде торговать и любить. Я шел, как лунатик. Мне казалось, будто я, как ворон, прожил лет триста, возвращался на давно оставленное привычное место и все узнавал. «Вон там, — угадывал я, — должен быть крендель булочной, описанный Блоком, — как-то теперь? И что же: хотя золотой крендель куда-то исчез, но булочная была на том же самом месте, и продавали тут прежние французские булки и русские крендели. Через два дома от кренделя была пивная, и опять вот она: люди по-прежнему сидят и пьют у окна. А потом я завертываю за угол, и волнение мое доходит до последних пределов: тут должна быть маленькая подвальная лавочка, где в роковой вечер я купил себе папиросы «Кадо». У меня сердце больно забилось, когда я в действительности увидел ту же самую лавочку с папиросами. Спускаюсь туда, и тот самый хозяин с усами, как у Бисмарка, подает мне папиросы «Сафо». С сожалением говорю ему: «Когда-то было «Кадо»! Он мне моргнул и покосился на публику. Я подождал немного, и, когда все вышли из лавочки, Бисмарк, обдувая пыль с коробочки, подает мне «Кадо». Я закурил и, как лунатик, продолжал свой путь, и всюду, где я жил, где так смутно мыслил и.смешанно чувствовал, на кровавых местах побоищ нахожу выпрямленное чувство и созревшую мысль. Мало-помалу я уже не лунатиком, а хозяином прохожу по полю сражения и собираю урожаи на крови и сею. Неужели я сею только для того, чтобы скрыть повседневный бой и создать иллюзию мира? Не знаю, друг мой, мне так хочется жить, я плыву, поминая милых умерших, втайне радуюсь сердцем, что сам остался в живых...