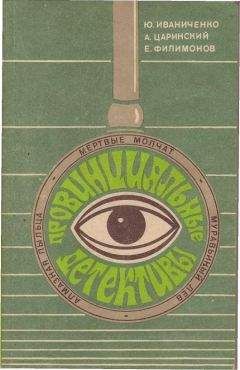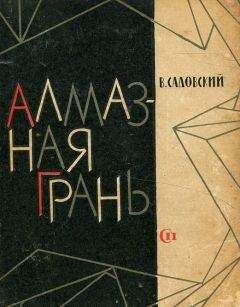На самом деле Михайле тогда было добрых двадцать пять годочков, но он убавил себе возраст, чтобы не казаться чересчур уж «матерым» – а то, чего доброго, за границу не пошлют, ведь Академии вьюноши надобны...
Михайло свет Васильевич, надобно вам знать, всегда считал, что для пользы дела не грех и приврать. В свое время, стараясь попасть в Славяно-греко-латинскую академию, он скрыл свое настоящее происхождение (крестьянских детей в сие учебное заведение принимать было запрещено официальным указом) и назвался сыном холмогорского дворянина. Проехало.
Чуть позже, когда готовилась экспедиция в закаспийские степи, Михайло, чтобы принять участие в столь интересном деле, написал в прошении, что отец у него не крестьянин и не дворянин, а священник. Правда, на сей раз кто-то въедливый учинил строгую проверку, и враки выплыли на свет божий. В совершеннейшей растерянности чиновник вскричал:
– Да кто ж ты есть-то, аспид? То дворянским сыном пишешься, то поповичем... Батогов захотел?
Дело пахло жареным, но Ломоносов уверял, что все «учинил с простоты своей» – и дело как-то замяли...
Пусть никто не думает, будто я хочу каким-то образом бросить тень на великого российского ученого. Просто-напросто, как говорится, из песни слов не выкинешь, что было, то было. И, если рассудить, если бы не это нахальное вранье, очень может статься, не было бы в славной истории науки российской столь титанической личности, как Ломоносов. Цель, уж простите, иногда все же оправдывает средства...
Тем более что учился Ломоносов в Марбургском университете всерьез и усердно: физике, математике, горному делу и многому, многому другому. Однако была у Михайлы страстишка, сохранившаяся на всю жизнь: долго и вдумчиво гулять в кабаке (и, будем откровенны до конца, всласть подебоширить). Впрочем, в этом плане он всего лишь следовал старым добрым традициям немецкого студенчества: бушевать, пьянствовать и безобразничать у «буршей» считалось прямо-таки обязанностью. Вот и шатались по тихим немецким городкам пьяные ватаги господ студиозусов, колотили ночами в сковородки под окнами благонамеренных обывателей, в церкви вваливались во время свадеб и похорон, старательно все опошляя, стекла били, прохожих задирали, купеческие лавки громили, по погребам лазили.
Перемежая научные занятия с проказами, Ломоносов прожил в Германии более трех лет, успел даже жениться на Елизавете Цильх, дочери пивовара. (Пристрастие к исторической точности вынуждает меня упомянуть, что на сей раз своего батюшку Михайло объявил уже «купцом и торговцем».)
И вот однажды, по дороге в город Дюссельдорф, Михайло (богатырского роста и телосложения, если кто запамятовал) завернул в кабачок. А в кабачке – пир горой, дым коромыслом. Пировал со своими солдатами и новобранцами прусский офицер, занимавшийся вербовкой рекрутов, – и вскоре, присмотревшись к русскому великану, предложил выпить на халяву.
Какой русский человек от такого предложения откажется? И понеслось...
Между прочим, кому-кому, а прожившему чуть ли не четыре года в Германии Ломоносову следовало бы знать, что слава у прусских вербовщиков самая худая. Прусский король Фридрих Вильгельм I, питавший прямо-таки патологическое пристрастие к рослым солдатам (без тени сексуальности, я не о том!) рассылал своих агентов по всей Германии, наказывая не церемониться. Ну, они и не церемонились: хватали даже монахов, оказавшихся, на свою беду, немаленького роста, а заодно и неосторожных великанов-иностранцев, сдуру сунувшихся в пределы Пруссии. За границей они вели себя чуточку скромнее, но все равно в ход шли любые методы. Дошло до того, что в княжестве Гессен-Кассель нескольких изловленных прусских вербовщиков без особых церемоний повесили на площади...
Но ведь халява, господа мои! Кто откажется?
Похмелье выдалось – хуже не бывает. И дело тут было отнюдь не в головной боли. Открывши утречком глаза, Михайло обнаружил на шее форменный прусский галстук, а в кармане – прусские талеры. А стоявшие вокруг прусские солдаты его похлопывали по плечу и вполне дружески называли камрадом. Офицер ободрял:
– Такому молодцу, Михель, на королевской службе точно посчастливится! В капралы выслужишься, верно тебе говорю!
– Какие такие капралы? – охнул Михайло, содрогаясь от головной боли. – Какой я вам камрад? Я вовсе даже русский подданный!
Вахмистр ему вежливенько объяснил: мол, камрад Михель, ты вчера при нас, при свидетелях, записался на службу к прусскому королю, по рукам ударил с господином поручиком, задаток взял и половину уже пропил... Одним словом, добро пожаловать. Такого молодца и в кавалерию определить не грех, в гусары!
Что называется, приплыли... Солдаты разобрали ружья, предусмотрительно окружили новобранцев и повезли в Пруссию, в крепость Везель...
Качать права не было никакого смысла. За это по головке не гладили. Известна история с неким французским дворянином, которого самым беззастенчивым образом захватили прусские вербовщики. Когда он решил бежать и был пойман, бедолаге отрубили нос и уши, тридцать шесть раз прогнали сквозь строй и, приковав к тачке, загнали на каторгу, где он провел много лет...
Михайло Ломоносов, человек умный и обладавший к тому времени немалым жизненным опытом, быстренько смекнул, что выступать – себе дороже. И, наоборот, прикинулся, что чертовски рад военной службе. С самыми честными глазами и искренним лицом говорил новому начальству:
– Доннерветтер, а ведь мне у вас нравится! У гусар форма красивая, глядишь, и в самом деле в вахмистры выйду...
– А почему бы нет? – благосклонно глядя на ретивого новобранца, поддакивало начальство. – Это офицерами у нас могут быть только дворяне, а до вахмистра и купеческий сын может дослужиться. Зер гут, Михель! Исправным солдатом смотришься!
Правда, пруссаки доверяли камраду Михелю все же не настолько, чтобы отпустить его на квартиру (солдаты тогда, главным образом, располагались постоем в домах обывателей, что для последних было досадной повинностью). Ломоносов вместе с другими новобранцами обитал в крепости, в караульне – но решеток на окнах не было, и одно окно выходило как раз на крепостной вал...
В одну прекрасную ночь Михайла, дождавшись полуночи, выбрался из окошка, прополз мимо часовых, тихонько спустился с вала, тихонько преодолел вплавь заполненный водой крепостной ров, перелез через бревенчатый палисад, выбрался в чисто поле – и уж там припустил во всю прыть! Представляю себе...
Довольно скоро беглеца хватились, и вдогонку помчались кавалеристы. Но граница была недалеко, Михайла, коего всадники уже догоняли, успел-таки скрыться в лесу – а там уже начиналась соседняя суверенная Вестфалия. Правда, для пущей надежности беглец и на вестфальской территории долго еще пробирался лесом и кустарниками, целый день, и лишь на следующую ночь рискнул выйти на большую дорогу. Так и ускользнул от прусской солдатчины. А сложись несчастливее, и не было бы у нас Ломоносова...
Точно так же дурацкая случайность едва не привела к гибели великого писателя Вальтера Скотта еще во младенчестве.
У младенца была молодая нянька, а у няньки в стольном городе Эдинбурге имелся любовник, с коим она оказалась разлучена (поскольку адвокат Скотт с супругой обитали в отдаленной деревне). На почве большой и чистой любви у девицы определенно поехала крыша, и она рассудила просто: ежели некого будет нянчить, то ее, соответственно, отпустят из деревни.
Ну, и отнесла как-то младенца Вальтера утречком подальше от дома, прихватив ножницы, чтобы перерезать ему глотку – я ж говорю, крыша поехала...
К счастью для мировой литературы, у этой паршивки не хватило духу – отнесла дите домой и чистосердечно во всем повинилась: мол, хотела малютку зарезать ножницами, но он так безмятежно гугукал и так ясно улыбался, что рука не поднялась. Дуру моментально вышибли – и даже не поколотили напоследок, что лично я нахожу совершенно неуместным гуманизмом... А малютка вырос и стал великолепным писателем.