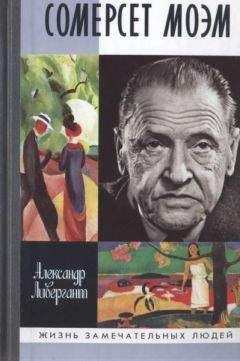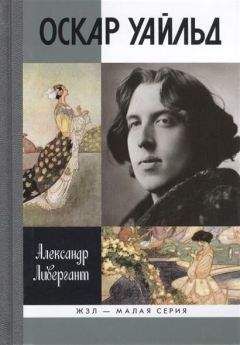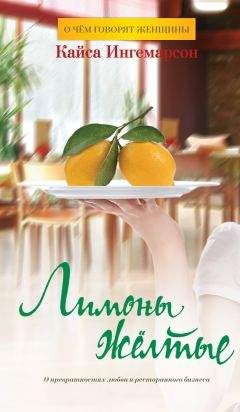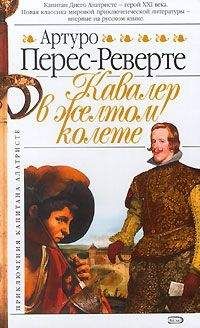А. Я. Ливергант. Сомерсет Моэм
«Когда в „Таймс“ наконец-то напечатают мой некролог и кто-нибудь скажет: „Надо же, я думал, он давным-давно умер“, — мой призрак преехидно захихикает».
Сомерсет Моэм. Из записных книжек
«Я неудачник… Каких только ошибок я не совершал в жизни! Жизнь у меня получилась никудышная, у меня все валилось из рук…
Те немногие, кто хорошо меня знал, в конце концов, начинали меня ненавидеть».
Сомерсет Моэм. Из беседы с Робином Моэмом
В лондонской галерее «Тейт» висит запоминающийся портрет. На ярко-желтом фоне изображен сидящий на плетеном табурете пожилой человек. Сидит, положив ногу на ногу, руки сложены, как у первоклассника, спина прямая, серые отглаженные брюки со стрелкой, бежевый пиджак, бежевые — в тон пиджаку — носки, желтые, чуть светлее яичного фона, мокасины, на шее — заправленный в пиджак длинный, почему-то красный шарф. Уголки тонких губ презрительно опущены, длинный, вислый нос, дряблые щеки, тяжелая челюсть, иронический, всеведущий взгляд карих глаз. «Уж я-то вам цену знаю!» — словно хочет сказать этот устремленный поверх зрителя скептический, больше того — брезгливый, недоверчивый взгляд.
Написан портрет пейзажистом, мастером религиозных композиций, а в поздние годы и известным портретистом (этот портрет в его послужном списке едва ли не первый) англичанином Грэмом Сазерлендом. Человек на портрете — тоже англичанин, прославленный писатель, один из самых чтимых, читаемых и высоко оплачиваемых в двадцатом столетии английских прозаиков, драматургов, новеллистов и очеркистов Уильям Сомерсет Моэм.
Писался портрет на юге Франции, на вилле Моэма, с 17 февраля до июня 1949 года; Моэм позировал художнику десять сеансов, по часу в день. Сазерленду тогда было сорок шесть лет. Моэму — семьдесят пять. Сам Сазерленд, сославшись на то, что для него это едва ли не первый опыт портретной живописи, согласился писать портрет живого классика только при условии, что к нему не будет претензий. Он же самокритично и не без яда заметил впоследствии, что Моэм на портрете похож на содержательницу публичного дома в Шанхае. Приписывают биографы это сравнение и старому приятелю Моэма, тогдашнему президенту Королевской академии художеств Джералду Келли, который якобы сказал о портрете друга примерно то же самое: «Подумать только, Уилли я знаю с 1902 года, однако только сейчас понял, что, загримировавшись под содержательницу китайского публичного дома, он держал бордель в Шанхае».
И тем не менее писатель остался своим изображением доволен. В отличие, кстати, от своего друга Уинстона Черчилля, который терпеть не мог свой портрет кисти Сазерленда, написанный к восьмидесятилетию знаменитого политика. Терпеть не мог и нисколько не скрывал этого. И это притом что он сам заказал Сазерленду эту работу; портрет Моэма ему понравился. «Вылитый Уилли», — похвалил художника Черчилль. Заметим кстати, что, помимо изображений Черчилля и Моэма, кисти Сазерленда принадлежат также портреты таких известных людей, как Елена Рубинштейн, Конрад Аденауэр, лорд Бивербрук.
Уже спустя два года, в 1951 году, портрет Моэма перекочевал из его виллы на Лазурном Берегу в лондонский дом его дочери, которая, по договоренности с отцом, передала картину в галерею «Тейт». Портрет же Черчилля в исполнении Сазерленда был с помпой выставлен в Вестминстер-холле 30 ноября 1954 года, и между старыми друзьями, Черчиллем и Сомерсетом Моэмом, состоялся любопытный и, как всегда, не лишенный остроумия обмен репликами.
Черчилль: Нет, мне мой портрет решительно не нравится.
Моэм: Чем же?
Черчилль: Вид у меня на портрете какой-то неблагородный.
Моэм: Так какой же у вас в таком случае вид?
Черчилль: Как будто у меня запор.
Моэм рассмеялся — вид у политика на портрете и действительно был очень напряженный, один из критиков пошутил примерно так же, как и Черчилль: дескать, выглядит премьер-министр на портрете так, будто у него прострел. Впоследствии, однако, писатель не раз говорил, что образ Черчилля Сазерленд уловил очень точно. «То, как написал меня Грэм Сазерленд, мне на самом деле понравилось не слишком, — поменял по прошествии времени свою точку зрения Моэм, — а вот образ Черчилля он уловил превосходно».
А дело все в том, что есть два вида портретистов, на что однажды обратил внимание и Моэм, отлично разбиравшийся в живописи. Для одних в первую очередь важна модель, а уж потом они сами; другие же ставят на первое место себя, а модель на второе, в результате чего на холсте отражается не столько личность портретируемого, сколько индивидуальность портретиста. Так вот, Грэм Сазерленд относился ко второй категории живописцев, на первое место он ставил себя. И это притом что однажды он заявил: «Я должен поглощать всех, кто мне позирует, как промокательная бумага, и быть бдителен, как кошка». Не удивительно поэтому, что, когда жена Черчилля Клементина, спустя полтора года, сожгла, не делая из этого большого секрета, «непотребный» портрет обожаемого мужа, Сазерленд поспешил назвать это «актом вандализма».
А вот портрет Моэма, по всей видимости, и в самом деле удался; во всяком случае, своим изображением остался доволен не только автор «Пирогов и пива» и «Театра».
«Невозможно было представить себе, что человек с таким лицом разразится громким, заразительным смехом — в лучшем случае он мог бы выдавить из себя едва заметную ироническую улыбку» — так, описывая в рассказе «За кулисами» внешность британского посла сэра Герберта Уизерспуна, Моэм — едва ли это сознавая — описал самого себя на портрете Грэма Сазерленда.
Словно предвидя крайне негативную реакцию Черчилля, Сазерленд однажды заметил: «Лишь те, кто не слишком любит свою внешность, кто хорошо разбирается в живописи, или же те, кто по-настоящему хорошо воспитан, способны скрыть тот ужас и даже отвращение, какие они испытают, впервые увидев на холсте свое в меру правдивое изображение».
Насколько «правдивым» было застывшее, брезгливое и разочарованное выражение лица 75-летнего Моэма на портрете Грэма Сазерленда, читатель оценит, прочитав эту книгу.
За свою жизнь Сомерсет Моэм написал несколько автобиографий, однако был решительно против того, чтобы его жизнь описывал кто-то, кроме него самого. Поэтому незадолго до смерти он распорядился не предоставлять биографам газетных статей, рецензий, своих писем, а также писем, присланных ему, равно как и прочих «материалов к биографии», которые Моэм в старости регулярно, часто даже не перечитывая, сжигал в камине. Плохую биографию не станут читать, рассуждал писатель, а хорошую все равно не напишут.