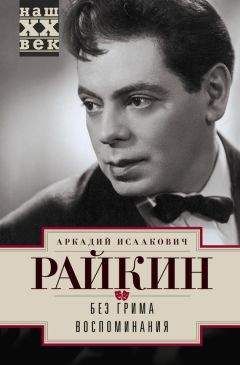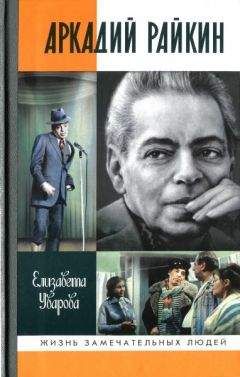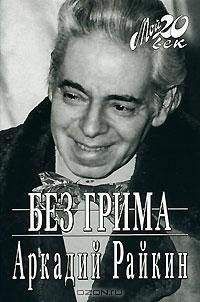Аркадий Исаакович Райкин
Без грима. Воспоминания
Мемуары – коварный жанр. По моим наблюдениям, некоторые мемуаристы-актеры оказывают себе плохую услугу, когда, прибегая к помощи профессиональных литераторов, излагающих на бумаге то, чем они сами в состоянии поделиться лишь устно, в то же время вольно или невольно делают вид, что не только вспоминают и размышляют, но и владеют пером. Во избежание излишней двусмысленности, подрывающей доверие к мемуаристу, я не считаю нужным таить, что литератором не являюсь. Эта книга не написана мной, а рассказана. И прежде всего прожита. Что, полагаю, само по себе достаточное основание для того, чтобы я мог отвечать за все, о чем в ней говорится.
А. Р. 1980–1987 гг.
Издательство благодарит за помощь в работе над книгой Екатерину Аркадьевну Райкину; Юрия Ивановича Кимлача, исполнительного директора Фонда поддержки и развития культуры им. Аркадия Райкина
Родился я в 1911 году в Риге. Родители увезли меня оттуда пятилетним, но во мне существует как бы мерцающее ностальгическое чувство к этому городу, к дому номер 16 по улице Дзирнаву.
Однажды, впервые за целую вечность, я решил посетить свое детство. Приезжаю в Ригу, иду на Мельничную – Дзирнаву, не без труда отыскиваю дом, поднимаюсь на второй этаж и, поколебавшись немного, звоню в квартиру, где когда-то – бог знает когда – обитала наша семья. Твердо сознавая, что мне это необходимо (зачем – не знаю), прошу меня впустить. Конечно же я обнаружил совсем незнакомых людей. От нашей семьи не осталось никаких следов. Чувствую себя в чужом доме. И все же то, что я тогда испытал, нельзя назвать разочарованием.
Наша жизнь воскресла передо мной. Точно не исчезала вовсе, а только таилась под спудом времени – невидимая, неслышная посторонним, ожидающая моего прихода.
Не помню, впрочем, сколько было у нас комнат (не исключено, что теперь там что-то перестроено). И какая была у нас мебель, тоже не помню. Вообще, как ни странно это прозвучит, облик той жизни в моем восприятии смутен, притом что образ ее весьма отчетлив.
Образ раннего детства, невыразимо волнующий, почти музыкальный, отнюдь не фантазия, не причуда сентиментальной старости. Скорее – голос памяти. Реальность промежуточных состояний между явью и сном. Или – пожалуй, так будет более верно, более полно – точка отсчета эмоциональной и даже духовной биографии человека. Воспоминания обрывочны, пунктирны, они никак не выстраиваются в сюжет.
В самом деле, чего только не было в моей жизни… но ничто не стерло, к примеру, восторга от первой в жизни поездки на трамвае, который казался мне ослепительным чудом.
Скорость движения (небывалая скорость!) захватывала дух и рождала чувство превосходства над пешеходами.
Прижавшись носом к стеклу и как бы забегая вперед (насколько позволял ракурс обзора), я выбирал кого-нибудь из тех, кого трамваю предстояло настигнуть, и постепенно, по мере обгона скашивая взгляд в противоположную сторону, следовал за своей «жертвой» до тех пор, пока она совершенно не скрывалась из вида.
Немало удовольствия получал я и от наблюдений из окон нашей квартиры. Одно из них – кухонное – выходило на дровяной склад. Подъезжали подводы с запряженными в них громадными лошадьми (битюгами), и под громкие крики возчиков и грузчиков шла выгрузка бревен, досок и жердей.
Другие окна выходили во двор, где находилась частная гимназия. Мне нравилось смотреть, как гимназисты, удивительно ловкие, а главное такие самостоятельные (и в то же время не настолько большие, чтобы я не чувствовал в них детей), занимаются во дворе гимнастическими упражнениями или просто носятся как угорелые на переменах… Но сколько же можно стоять у окна без движения?! И сколько же можно вести наблюдения за тем, в чем не можешь принять участия сам?!
Двор был запретен, зато была доступна Эспланада.
Эспланада – парк возле оперного театра. Мало сказать, парк. То была моя вотчина. Или, если угодно, – средоточие моих страстей.
Две соседские девушки возили меня туда в сидячей прогулочной коляске. По нынешним моим подсчетам, я в ту пору уже перестал быть «колясочником», к тому же расстояние было небольшим, я мог одолеть его и пешком. Однако таков был ритуал, очевидно доставлявший моим спутницам удовольствие не меньше моего. Как я теперь понимаю, они были очень молоды, и гулянье со мной являлось для них чем-то вроде игры в «дочки-матери». Впрочем, это наверняка были серьезные девушки, если моя мама оказывала им такое доверие.
В парке, или, как рижане говорят до сих пор, на Эспланаде, всегда было привольно и радостно, по воскресеньям еще и торжественно. В воскресные дни по аллеям фланировали нарядные господа и дамы, а в раковине играл духовой оркестр.
Помню, оркестр играет, а вокруг – всеобщее смятение: потерялся чей-то ребенок. Оркестр играет, а ребенка ищут и не могут найти. Вдруг дирижер обрывает музыку, поворачивается к публике:
– Родители, не волнуйтесь, ваш ребенок здесь. Меня потрясло, что дирижер, оказывается, наделен даром речи.
Много позже я оценил в этом событии могущественную природу апарта – такого сценического приема, который, явно разрушая магию представления, замкнутого в себе, способен творить новую магию – открытого сближения артиста и публики.
Дед – отец мамы – владел аптекой. Она примыкала к жилым помещениям его дома, пропитанного запахом лекарств. Я был привычен к этому запаху, не вызывавшему во мне тоскливого, гнетущего беспокойства, как часто бывает. Напротив, он связан для меня с чем-то уютным, теплым, очень домашним.
Самого деда помню плохо. Но по семейным преданиям знаю, что он, как и вообще родственники по материнской линии (все они были коренными рижанами), отличался спокойным и мягким нравом, деликатностью, отзывчивостью, свойственной как натуре его, так и профессии, миссии медика, которую он, получивший образование не только фармацевта, но и врача, осознавал прежде всего как миссию нравственную.
Мне представляется естественным, что такой человек не был чужд гуманитарным интересам и воспитывал в своих детях эстетическое чувство. Один из маминых братьев стал журналистом. Другой славился как страстный книжник и оставил после себя огромную, со вкусом собранную библиотеку. Сестра стала скульптором. Сама же мама была акушеркой. Впрочем, она принадлежала к тем женщинам, жизнь которых не столько определяется профессией, сколько растворяется в семейных заботах и именно в этом качестве излучает внутренний артистизм.
Существует распространенное суждение, что артистическое начало – во всяком случае, на бытовом уровне – выражается непременно в экстравагантной легкости, чуть ли не в легкомысленности и поверхностности. Что ж, бывает и так. Но это вовсе не правило.