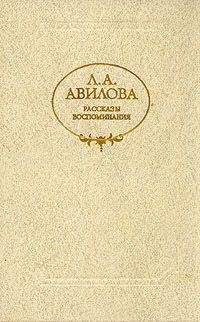Много, много у меня времени, лежа, думать и вспоминать. Ну, думы тяжелые, и думать больно. А вспоминать можно с выбором, и часто от воспоминаний вся душа точно пронижется солнцем и станет легкой и радостной. Отчего я не начала давно записывать такие отрывочные воспоминания? Читать мне часто нечего, делать нечего. Приятно вспоминать, и записывать приятно. Немного, а иногда и очень физически трудно и неудобно писать. Ну, когда могу. Отрывки. Без всякой последовательности, без всякой цели, без всяких претензий на «воспоминания», на литературность. Сны моей жизни.
Тысяча девятьсот четвертый год
(Эпилог повести «А. П. Чехов в моей жизни»)[1]
Четвертого июля мы ждали с вечерним поездом много гостей[2]. Пятого праздновался день нашей свадьбы, и все наши друзья и родственники съезжались и по железной дороге и на лошадях, чтобы повеселиться и попировать.
Поезд приходил около 11-ти вечера. Мы слышали, как он просвистел, как экипажи прогремели по плотине. Вышли встречать на крыльцо.
Всем был приготовлен ночлег, и, после шумной сутолоки приезда, гости разбрелись по комнатам привести себя в порядок. Я стояла в столовой, оглядывая накрытый к ужину стол, когда Миша быстро подошел ко мне, взял меня под руку и вывел на неосвещенный балкон.
— Вот что… — сказал он резко, как будто сердился, — вот что… Я требую, чтобы не было никаких истерик. Я требую. Слышишь? Из газет известно, что второго в Баденвейлере скончался Чехов. Мы этой газеты еще не получили. Так вот… Веди себя прилично! Помни!
Он сейчас же ушел. Я осталась в темном углу. Ухватившись за перила, стояла и дышала. Дышать было трудно. Стоять тоже было трудно. Надо было напрячь все силы. Но времени у меня не было, и я отдышалась, и ноги стали меньше подкашиваться и дрожать. Я глубоко-глубоко перевела дух и попробовала двигаться. Спустившись на несколько ступеней к темному цветнику, я подняла голову и взглянула на небо: было облачно, но кое-где светились звезды. Подбежала дворовая собака и стала ласкаться, тереться о мое платье и протягивать мне лапу, и от этой ласки вдруг ожесточилась моя душа…
В столовой послышались голоса. Собирались ужинать. Миша кричал:
— Лида! Лида!
Я погладила собаку и пошла к гостям. Мне бросилось в глаза тревожное сострадательное лицо Нади, и я поспешно отвернулась.
Так как я уступила свою спальню гостям, мне постелили у Ниночки, на кушетке под окном. Ниночка крепко спала.
Я заперла дверь, поспешно легла и стала смотреть в окно. Уже слегка рассвело. По бесцветному небу протянулись длинные темные облака, деревья в саду стояли неподвижно. Сильно пахло левкоями.
— Чехов умер, — мысленно сказала я себе. Весь вечер никто не сказал об этом ни слова. Я все ждала, что будут говорить, но, может быть, об этом уже раньше наговорились и эта тема наскучила? Впрочем, я не задумывалась над тем, почему не говорили. Скончался 2-го в Баденвейлере. Хотела представить себе его мертвым в гробу, но ярко вспомнила его лицо на подушке в клинике, темные глаза, то ласковые, то хмурые, и вдруг лукавые и смеющиеся.
— Он умер, — внушала я себе, но сознать это я еще не могла. Мимолетно стало страшно, что сознать придется неизбежно. — Не надо, — отмахнулась я от этой мысли, — ведь я ничего не чувствую, хоть и знаю. Что же еще? Так и будет.
Я попробовала катать голову по подушке, потом стала тереть шею и грудь. — Я так равнодушна, потому что я его пять лет не видала… И опять стала припоминать письмо: — Главное, будьте веселы… Да! Он сам когда-то был очень веселый. Это я помню. А потом гасла, гасла его веселость, а грусть постепенно, но настойчиво овладевала его душой. Я знала, почему… «Да и стоит ли она, жизнь, которую мы не знаем, тех мучительных размышлений…»
Да, замучился. Никто, как он, так болезненно не чувствовал «уклонения и ненормальности жизни», и вначале он думал, что достаточно указать на них, чтобы люди его поняли и постарались бы исправить то, что портили. Но люди читали, похваливали или помалкивали. Были восторженные, были снисходительные, были равнодушные или враждебные читатели, но не было таких, которые оглянулись бы на себя и сказали бы себе: «Стыдно! Да, действительно, стыдно так жить!» И его же упрекали, что он не идейный писатель, что он не учит, не руководит, не дает идеала. Разве не пропадал даром весь его громадный талант? Разве он не чувствовал этого?
Он не давал формы, внешности, костюма. Вот поклонники учения Толстого сейчас же сшили себе «толстовку», широкие штаны, отказались от мяса, от воинской повинности и поэтому становились толстовцами и чувствовали себя гордо.
Еще раньше девушки стригли волосы, носили косоворотки, не чистили ногтей и назывались нигилистками. Все это было просто и ясно.
Требования Чехова были иные: не надо было ни костюма, ни прически, а надо было научиться иначе чувствовать, иначе думать, чтобы не было «стыдно». И за это никаких знаков отличия, никакой этикетки. Очень любили Чехова и замучали. «Были мазинистки, фигнеристки, а теперь стали и «чехистки», — говорил Миша.
Возможно, что и это чувствовал Чехов. А он пошлости не выносил. Очень любили Чехова, но многие ли понимали его? Разве ему не говорили, что его рассказы — «конфетки»?
В саду громко крикнул грач, ему тише отозвались другие. Первый, казалось, спросил: — Пора? Другие ответили: — Рано! Рано! И опять все затихло. А меня этот крик ударил по нервам и точно разбудил ото сна.
— Чехов умер, — напомнила я себе. — Умер.
Я приподнялась и облокотилась на подоконник. Уже совсем рассвело, и высоко в небе заалело облачко. И опять всплыло лицо Чехова на подушке. — Милая, — услыхала я его голос. Резкой болью кольнуло в сердце, я невольно вскрикнула, и тогда слезы хлынули из глаз…
<…> Несколько лет после смерти Антона Павловича его сестра, Мария Павловна, отдала мне мои письма к нему. Они были целы. «- Очень аккуратно перевязаны ленточкой, — сказала мне Мария Павловна, — лежали в его столе». Не перечитывая, я бросила их в печку. Я очень жалею, что я это сделала. Но я не могла не спрашивать себя много раз: зачем же он их собирал и берег? На полях я видела какие-то отметки. Почему я не хотела обратить на них внимания? Конечно, потому, что мне было больно. Читая его письма к жене, я два раза наткнулась на вопрос: — Не встречаешь ли ты Авилову? Ну как же! Мы встретились лицом к лицу, но вряд ли она меня узнала. Мы как-то играли в театре в пьесе «Странное стечение обстоятельств». Но мы обе были тогда так молоды![3] Она играла тогда одну Софью Андреевну, а я — другую Софью Андреевну. В этом и заключалось стечение обстоятельств. А странным было то, что это мне, а не ей прочили сценическую карьеру. Мимо меня прошло все, что в полной мере досталось ей. Чехова-Книппер! Как Книппер она дала и получила достаточно. Как Чехова… не знаю. Не мое дело[4].