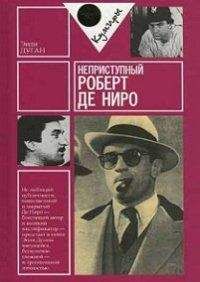Энди Дуган
Неприступный Роберт де Ниро
Гаснет эмблема студии «Юнайтед Артистс» — буквы цвета голубой стали, с зазубренной заглавной «А», — и экран становится черным на пятнадцать секунд. Почти сразу же в темноте возникает, как будто издалека, музыка — соло на скрипке, смутно знакомая классическая мелодия.
Постепенно она становится все громче и яснее. На черном экране вспыхивают белые буквы: «Продукция компании Роберт Чартофф — Эрвин Винклер», — весьма скромная заставка по голливудским стандартам. За нею следует вторая, столь же простая: «Картина Мартина Скорсезе». Наконец появляется: «Роберт Де Ниро в фильме…» И снова — секунда полного мрака на экране, который затем вспыхивает черно-белой картинкой.
Это боксерский ринг перед боем. Вокруг плавают клубы дыма от множества дешевых сигар и сигарет. В левом углу боксер в облепившем его мокром от пота трико. Он боксирует с тенью, ни в кого не целясь, словно сосредоточенно вглядываясь внутрь себя… Камера ловит его изображение в «рамке» из натянутых канатов, так что он выглядит, подобно животному в клетке, загнанным между верхним и нижним канатом, а средний канат рассекает изображение пополам.
Звук все нарастает, и, наконец, мелодию можно узнать. Это интермеццо из «Cavalleria Rusticana» Масканьи. Когда к скрипичному соло присоединяются все струнные, появляются титры на красном фоне: «Бешеный бык». И это — единственный всплеск цвета на протяжении всего фильма.
Боксер продолжает свой бой с тенью. Томительное пение струн придает углубленной сосредоточенности его движений почти балетную грацию. Созвучия становятся все резче, он уже чуть ли не танцует на пуантах. Толпа вокруг ринга увлеченно следит за ним, но боксер не удостаивает зрителей ни единым взглядом. Он опускает голову и правое плечо, нанося серию ударов в солнечное сплетение воображаемого противника. Теперь боксер весь сжат до предела, и видна вся его мощь. В эту минуту осознаешь, что всякий, кто попадет под его удар, пролежит пластом не меньше недели. Экран на мгновение «слепнет» — это где-то в толпе щелкает вспышка невидимого фотографа. Боксер все это время работал спиной к камере; теперь он обращает к ней свое лицо.
Снова он встает на цыпочки, подпрыгивая на месте словно в беспредельной злобе. Потом вдруг делает несколько неестественно широких шагов вперед и валится на канаты, руки его больше не выстреливают удары, а судорожно прижаты к груди. Затем опять начинает двигаться, но осторожно, словно стараясь удержать в себе энергию. Все это время он ни разу не взглянул на толпу болельщиков. Своей отрешенностью боксер похож на марсианина. Он двигается вперед и назад по рингу, кулаки в перчатках сжаты, его сила полностью сконцентрирована, и кажется, что от него исходит поток энергии…
Мы снова видим его в том же углу ринга, что и вначале. Музыка смолкла, а боксер все еще наносит удары в пустоту. Конец сцены.
Пожалуй, публика так и воспринимает Роберта Де Ниро — как человека вне общества, вне системы, бросающего фантомные удары в лицо невидимому противнику.
Нельзя сказать, что Гринвич Виллидж — какой-то опасный район. Нет. Улицы здесь не слишком «плохие»… Особенно если сравнивать с другими частями Нью-Йорка.
Гринвич Виллидж — многоязыкое вместилище рас и народов, расположенное в самой южной оконечности Манхэттена. На протяжении многих десятилетий это излюбленный уголок для артистической богемы. Эдгар Аллан По, Натаниэль Готорн и Боб Дилан — это всего несколько имен из великого множества тех, кто искал и находил источник творческого вдохновения, сидя в здешних кафе и барах. Гринвич Виллидж раскинулся на запад, восток и юг вокруг Юнион-Сквер-Парк и разделен приблизительно пополам улицей Лафайет, там, где она переходит в Четвертую авеню. Ист Виллидж граничит с Маленькой Италией и Чайнатауном и, несмотря на предпринимаемые в последнее время попытки придать ему некоторый лоск, остается наименее приятным из двух частей Гринвич Виллидж. Зато Вест Виллидж — просто рай для богемы. Цены на недвижимость тут высоки, по улицам можно разгуливать спокойно, а в самой атмосфере чувствуется привкус свободы и приятной расслабленности.
Именно в Гринвич Виллидж направлялась в январе 1940 года двадцатичетырехлетняя студентка университета Беркли Вирджиния Эдмирал. Тогда район был совсем иной, чем ныне, — прежде всего, казался уединенным и был не так плотно застроен. Две коммуны, ныне расположенные к северу и к югу от Хьюстон-стрит, которая возникла в семидесятые годы в результате нашествия сюда «яппизированных» офисов, в те времена представляли собой индустриальный район с множеством заводов и фабрик. Целью Вирджинии было поступить в Школу изящных искусств Ганса Гофманна.
Родилась Вирджиния Эдмирал в Даллесе, штат Орегон, 4 февраля 1915 года, большую часть детства провела в Айове и в городке на границе Калифорнии и штата Вашингтон, на тихоокеанском побережье. Одаренная художница и хорошая студентка, в семнадцать лет она отказалась воспользоваться возможностью учиться в Париже… Зато в Беркли встретила друзей, у которых сформировалось свое собственное видение мира, таких, как поэт и художник-иллюстратор Роберт Дункан, поэтесса и художница Мэри Фабилли, ее сестра Лили, а также Полин Кэл, ставшая впоследствии авторитетным кинокритиком.
Студенческий кампус Беркли в тридцатые годы был невероятно политизирован. Испания в то время лежала в руинах гражданской войны, а Европа готовилась вступить во вторую мировую войну. Именно вокруг этих двух тем и накалялись политические страсти. Друзья Вирджинии из университетской Лиги Молодых Социалистов (ЛМС) были ярыми троцкистами, и потому, как вспоминала Вирджиния много лет спустя, «их мнения казались гласом вопиющего в пустыне, поскольку почти все остальные студенты являлись приверженцами сталинизма».
Подобно прочим студентам, они жили в клетушке на чердаке, где имелся мимеограф — примитивный печатный станок, который непрестанно выплевывал листовки с новостями пропаганды, чем вносил свою лепту в непримиримую идеологическую борьбу между молодыми социалистами и молодыми коммунистами. Молодые люди, сидя тесным кружком, слушали, как Дункан читает свои стихи, и, должно быть, представляли мир гораздо более простой и понятной штукой, чем это было на самом деле, — а на дворе стоял февраль 1938 года… Они жили, как счастливые бродяги, и наслаждались обществом друг друга. В статье, посвященной ретроспективному обзору иллюстраций Дункана, Вирджиния Эдмирал называет то время самым счастливым в жизни, тогда как ее мать смотрит на тот период значительно более скептически и описывает компанию дочери как общество восхищенных друг другом дурачков. «Впрочем, мне и самой казалось, что в этом что-то не так», — так признавалась позже и сама Вирджиния.