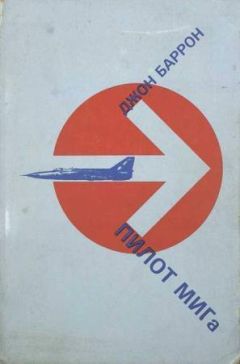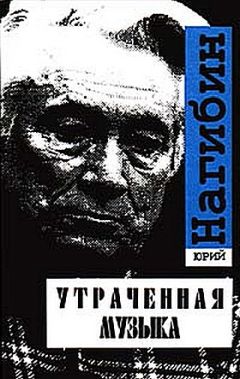Юрий Маркович Нагибин
Меломаны
С чего началась моя меломания? Не знаю. Но разве могу я сказать, с чего началась фантиковая болезнь или упоительные трамвайные путешествия на окраины Москвы? Мига пленения не замечаешь, а потом кажется, будто так всегда было…
В раннем детстве меня, как полагается, водили на «Сказку о царе Салтане», на «Золотого петушка» и для общего развития — на «Князя Игоря». Последний был просто невыносим: сплошное пение и никаких событий. Самое интересное — битва и захват Игоря половцами — происходило за сценой, и нельзя же всерьез считать побегом из плена неторопливый уход князя со сцены. Да и чего стоит бегство, если нет погони? В «Сказке о царе Салтане» я с нетерпением ждал полета шмеля, о чем был заранее предупрежден, но когда полет — вполне сносный — состоялся, смотреть стало нечего. В «Золотом петушке» мне нравилось лишь появление волшебника из зрительного зала и то, что у него таинственно-зловеще светилось лицо с крючковатым носом. Вообще я был твердо убежден, что хуже оперы на свете бывает только балет. После того как меня сводили на «Коппелию», я потребовал, чтобы в следующий раз все на сцене разговаривали, как нормальные люди, и никаких танцев, иначе меня на балет не заманишь.
Опера надолго исчезла из моей жизни. Попал я туда снова уже одиннадцатилетним, после только что перенесенного крупозного воспаления легких. Болел я тяжело, бред сменялся забытьём, ртутный столбик грозил вырваться из своего тесного вместилища — словом, по всему судя, мне предстояло вернуться во тьму небытия.
Я не сохранил никаких неприятных воспоминаний о пребывании там, но, видимо, некая тайная и всеведущая часть моего существа знала об этом больше дневного сознания и яростно воспротивилась возвращению во тьму. И вот я вновь в этой жизни, полегчавший и непрочный, на шатких, слабых ногах и с шатким, слабым сердцем, до боли чутко отзывающимся на окружающее.
В эту-то пору нового освоения бытия я вдруг оказался в филиале Большого театра на «Севильском цирюльнике». Мы с отцом вовсе не собирались в театр, просто бродили по воскресным весенним полуденным улицам, когда какой-то помятый человечек предложил нам «лишние билетики». Отец совершил несколько будничных движений, достал бумажник, порылся в нем, извлек две старые трешницы, получил билеты, и мы прошли сперва в прохладный вестибюль, затем в зрительный зал, неловко пробрались к своим местам при медленно гаснущем свете, и через несколько мгновений меня постигла самая большая и верная влюбленность всей моей жизни.
Я оставался глух к музыке Россини, но каждое появление на сцене невысокого, изящного, юношески стройного, дерзкого, насмешливого и отважного человека с очаровательно звучащим именем граф Альмавива наполняло меня неизъяснимым блаженством. Он был напоен щедрой и радостной жизнью, он любил девушку и, чтобы добиться ее, вырвать из цепких лап ревнивого старика, надевал личину то странствующего певца, то монашка, то пьяного вояки и, наконец, появлялся в своем истинном великолепии. Его удивительный теплый голос проникал мне в душу и, вытесняя ее, сам становился нежной, легкой, радостной душой. Когда в зале зажегся свет, я прочел в программе: «Граф Альмавива — Лемешев».
Я знаю: любить теноров позволительно чувствительным девицам, а не будущему воину. Но что поделаешь, если будущий воин, даже став седоголовым бывшим воином, все так же любит Лемешева? Неизменная преданность ему сродни моему отношению к Есенину. Есть поэты больше, изысканнее, сложнее, современнее, но таких, как Есенин, нет и не будет. И ту мою жажду, что утоляет он, не дано утолить никому другому.
Но, как всегда в моей жизни, влюбленность, захваченность вовсе не побуждали меня приблизиться к предмету поклонения, лучше, полнее узнать его. Я не стал бегать ни на спектакли с участием Лемешева, ни к театральному подъезду, осаждаемому его почитателями. Мое первое впечатление было столь сильным и чистым, что не нуждалось в подкреплении. Слыша случайно его голос по радио или на пластинке, я всегда радовался ему, но не искал и таких встреч. Мне достаточно было думать, мечтать о нем, придумывать его на свой лад, может, вовсе не похоже на истинную суть.
Когда я начал часто ходить в оперу, произошло как бы вторичное и окончательное сроднение с артистом. Но пошел я в оперу не из-за него. Верно, просто наступила такая пора, и организму стало не хватать оперы, как в раннем детстве не хватало каких-то нужных веществ, и я, к ужасу взрослых, пожирал известку, уголь, мел.
Я помню себя направляющимся ранним весенним подвечером в компании таких же меломанов к Большому театру. Вернее, к филиалу Большого — там ставились мелодичные оперы Россини, Верди, Пуччини, Гуно, которые мы по молодости и незрелости предпочитали монументальным творениям Римского-Корсакова, Вагнера, Мейербера, преобладавшим на главной сцене. Конечно, мы не оставляли своим вниманием и Большой, ведь там шли «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Кармен», но предпочитали филиал, как станет ясно в дальнейшем, не только из-за репертуара.
Итак, мы идем в оперу. Я, Павлик, успевший беззаветно полюбить Лемешева, Толька Симаков, предпочитавший «легкий» голос Козловского, и парень с другого двора, Слава Зубков. Он ценил мужественные голоса: баритональный бас и просто бас, а из женских — контральто. Слава — парень странный и неожиданный. Никогда не поймешь, что у него внутри. Молчаливый, сосредоточенный в себе, он вечно погружен в какую-то непосильную, изнуряющую думу. Но выходит он из своей оцепенелости удивительно легко, без того опоминания, которое необходимо и менее сосредоточенному человеку, чтоб перевести себя душевно и физически в другой режим. Только что Слава находился на дне своего колодца, но вот донесся стук мяча — и он уже в самой гуще футбольной схватки. Так же мгновенно кидался он в драку. Кажется, что ему и дела нет до каких-то там дворовых или междоусобных счетов, и вдруг он тихонько вздохнет: «Ну ладно!» — и обидчик уже отсмаркивает кровавые сопли… Слава был среднего роста, плечистый, чуть кривоногий, но не уродливо, а как лучники, расстреливающие святого Себастьяна на картинах художников раннего Возрождения, — кривизна прочности и легкого, пружинистого шага.
О духовных интересах Славы до поры никто ничего не знал: он не впускал в себя посторонних и ни с кем близко не сходился. Он чем-то напоминал одиноких индейцев Фенимора Купера — все соплеменники вымерли или истреблены, а среди живущих нет родной крови.
И вот с этим загадочным и манящим человеком наша тщедушная банда объединилась на почве общего увлечения. Раз за разом сталкиваясь с ним у дверей Большого театра, мы узнали друг в друге единомышленников и стали ходить вместе. Нередко к нам присоединялся Сережа Лепковский, но мы не считали его своим, потому что он пользовался служебным пропуском, который ему устроил дед, знаменитый артист. Иногда увязывалась длинноногая Лайма, мы гнали ее прочь, и она, хныча, тащилась за нами на почтительном расстоянии или шаг в шаг, но по другой стороне улицы.