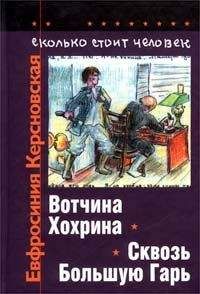Евфросиния Керсновская
Сколько стоит человек
(Повесть о пережитом)
Тетрадь вторая. 1941.
Исход или пытка стыдом
Теперь я уже не помню, как попала в вагон. Помню толпу, солдат, крики, пинки, давку в вагоне, битком набитом растерянными и растерзанными людьми.
И тихий солнечный закат. Такой мирный, привычный, что просто не верилось, что может «равнодушная природа красою вечною сиять», когда в повалку лежат, цепляясь за кое-какой скарб, женщины, мужчины, дети в телячьем вагоне, где в стене прорезано отверстие со вделанной в него деревянной трубкой, которая будет нашей первой пыткой — хуже голода и жажды, так как мучительно стыдно будет пользоваться на глазах у всех такого рода нужником.
Пытка стыдом — первая пытка… А сколько их еще впереди! Человек умеет быть изобретательным, когда надо издеваться над себе подобными!
Еще сутки простояли мы на запасном пути на нашей станции Флорешты. Все так же шуршали камыши на Реуте, протекавшем у самой железнодорожной насыпи, все так же поблескивала вода; те же родные белые мазанки в беспорядке разбросаны на том берегу, все фасадом на восток, так же знакомы невысокие заборы с закругленными углами, сложенные из плоских камней; те же сливы и вишни, реже — яблони, айва, абрикосы; все те же колодцы с журавлями стоят группами по два-три в низине. И все это как будто уже чужое…
Что запомнилось мне в эти первые сутки неволи? Два события. Первое — рождение ребенка в соседнем вагоне № 39 (наш был последний, № 40; за нашим был лишь один служебный). Второе. Даже не знаю, как это назвать… Рассортировка? Разлука? Разрывание семей? Это что-то вроде тех сцен, которые описывает Бичер-Стоу в «Хижине дяди Тома», когда негритянские семьи продают по частям. Только тут были не негры. И происходило это в ХХ веке.
Расскажу по очереди.
Какой-то военный раза два обошел весь состав, вызывая какого-нибудь медика. Врачи среди нас, безусловно, были, но каждый надеялся: «Авось выпустят!» — и никто не желал оказаться эшелонным врачом. Видя, что никто не отзывается, я сказала, что, будучи ветеринарным фельдшером, могу оказать помощь и человеку, если уж очень нужно и лучшего специалиста нет. Меня вывели. Идти далеко не пришлось: помощь нужна была в соседнем вагоне.
О, наш вагон был счастливый! У нас было лишь шестеро детей, и то младшему был уже 6 лет. И больных у нас не было, если не считать двух старух. В соседнем же вагоне был кошмар! Одних детей там было 18. И вот в этом кошмарном уголке ада родилась девочка. Тринадцатый ребенок несчастной, перепуганной женщины! Ее муж, жандарм, сбежал в Румынию, а все семьи таких невозвращенцев подлежат высылке. Дети были изможденные, худые, в лохмотьях. Старший мальчик лет 14–15. Явный кретин: открытый рот, из которого течет слюна, бессмысленный взгляд, нечленораздельная речь…
Кому нужно было отправлять в ссылку беременную женщину с такой оравой детей? И вот в первый же вечер она родила. Роды, судя по ногтям новорожденной, были преждевременные. Послед не отделялся, матка не сокращалась, и роженица истекала кровью. Нужно было путем массажа «по Креде» удалить послед и затампонировать матку.
Я сказала, что тут без врача не обойтись, и, пока я кое-как ей пыталась помочь, в каком-то вагоне выявили врача, еврея Лифшица, и вдвоем мы с грехом пополам справились.
Лишь поздно ночью вернулась я в свой вагон и до утра не могла уснуть. И не оттого, что трудно было спать, скорчившись в три погибели, под стон и плач человеческого стада, сгрудившегося в тесном, неопрятном загоне, а потому что меня угнетал кошмар, увиденный мной в соседнем вагоне! Нет, разум человеческий отказывается понимать! Ну пусть меня надо выслать. Может быть, я бельмо на глазу! Может быть, я им действительно мешаю. Но куда погнали беременную женщину с целым выводком чуть живых детей, у которых и смены белья нет?! И — накануне родов!
Сколько раз, наблюдая подобные сцены, я не могла избавиться от мысли, что смерть — далеко не самый жестокий выход из положения.
«Семья — основа государства»
Утром — другой сюрприз. Сперва комиссия, составившая список и сверившая наличный состав со списочным. Затем другая комиссия, отобравшая по списку почти всех мужчин. Чем они руководствовались? По какому признаку разрывали семьи, разлучали матерей с сыновьями, жен с мужьями, я и по сей день не пойму! Часть мужчин, и притом вполне трудоспособных, были оставлены со своими семьями. С другой стороны, забирали довольно-таки ветхих стариков. И — что уж совсем непонятно — забрали из нашего вагона женщину, бывшую помещицу из Хотинского уезда, оставив, однако, в вагоне трех ее детей. Старшей еще и пятнадцати лет не было, а младший мальчик 12-ти лет — эпилептик: припадки повторялись ежедневно по утрам. Были они очень тяжелые: мальчик бился с пеной у рта и закатившимися глазами, прикусывал язык, марался и мочился, а затем несколько часов лежал как труп.
Бедные дети! Даже птенца, вывалившегося из гнезда, жалко. Но эти люди не имели человеческого (и даже звериного) сердца!
«Отцовский дом покинул я…»
Мысленно я возвращаюсь к первым часам моей неволи — к тем предвечерним часам в телячьем вагоне. Должна же была я при всем моем оптимизме почуять что-то недоброе?!
Ссылка… Это слово пробуждало много воспоминаний о прочитанном: Радищев, декабристы, Шамиль. Наконец, ссыльно-каторжные. Какое-либо преступление, мятеж, и виновных — обычно после суда и тюрьмы — отправляют в чужие края.
В голове путались обрывки песен: «Отцовский дом покинул я, травой он зарастет…» Нет, это не подходит! Ведь там говорится: «Малютки спросят про отца, расплачется жена…» Дети, жена не совершали преступления. Они остались дома. А здесь?
«Не за пьянство иль буянство и не за ночной разбой стороны родной лишился я… За крестьянский мир честной». Нет, и это не подходит. Зачем было брать тех двух девочек в бальных платьях, с патефоном? Или малыша Недзведского, гостившего у бабушки?
Так что же это за ссылка? Ах, вот! Это, наверное, подойдет — картина Ярошенко «Всюду жизнь»: зарешеченное окно «столыпинского» вагона; белоголовый мальчишка бросает крошки голубям; рядом с ним старик дед, грустно смотрящий на голубей, на внука, на небо. Это крестьяне, которых, как рассаду, вырвали отсюда, чтобы пересадить туда. Из земли — в землю. Со всем их крестьянским скарбом — с коровенкой, с плугом, с конягой.
Я убеждаю себя, что это так. Во всяком случае, похоже, но перед глазами встают вереницы самых разнообразных людей: Зейлик Мальчик, успевший захватить лишь детский ночной горшок; та старуха из Водян, успевшая взять лишь вазон цветущей герани и зажженную лампу; старик еврей, истекающий кровью от геморроя, беременная женщина на сносях, имеющая дюжину полураздетых детей и ни одной рубахи на смену. А те две девочки с патефоном?