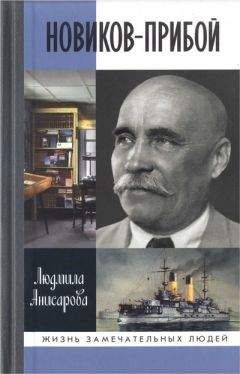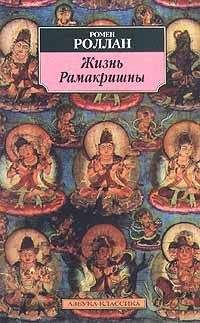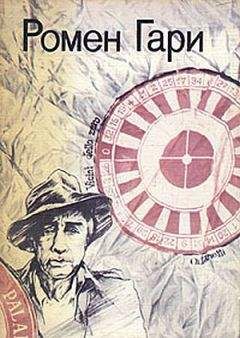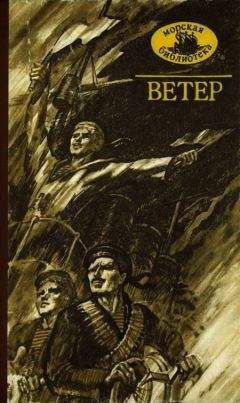Л. А. Анисарова
Новиков-Прибой
Морякам российского флота посвящается
Давняя привычка раннего пробуждения не порадовала, как обычно. Душа не устремилась безоглядно и легко навстречу новому дню, а, напротив, глухо билась уставшей, измученной волной о неведомую преграду, искала выхода, не находила, откатывалась назад — безнадёжно и отрешённо. Плохой будет день.
Безликое утро цвета талой воды, колотившийся в окно ветер, забрызганные ночным дождём стёкла — всё подтверждало тягостное предчувствие: ничего хорошего начинающий день не сулит.
Настроение испортилось ещё вчера вечером, когда Мария передала, что звонили от Алексея Максимыча, который собирает сегодня пишущую братию у себя на даче. Надлежит быть. Тем более встреча не рядовая. Ромен Роллан приехал. Конечно, интересно посмотреть да послушать француза. Только не в радость эти сборища, хоть и с Роменом, хоть и с Ролланом… Не в радость… И не откажешься, и ехать — каторга.
Утреннее время, предназначенное для работы, таяло, не превращаясь ни в мысли, ни в дело. Всё съела маета. В пепельнице росла гора окурков «Казбека». Ветер с дождём не выпускали дым из распахнутой форточки, загоняли его обратно, и он, тяжело заполнив весь кабинет, искал выхода, чтобы поползти по квартире. Мария дым, конечно, уже унюхала. Теперь уж проснулась… Сейчас начнёт движение справа по борту, не решаясь зайти, а только недовольно покашливая и громко вздыхая. Он всё знает: в доме ребёнок! Да и самому вредно смолить папиросы одну за другой. Всё он знает. Но и она должна понять…
Когда-то принял его Горький радушно. Нашёл добрые слова. Пригласил в ученики. Похваливал. Поругивал заслуженно, было за что. Что он тогда из себя представлял — матрос Затёртый? Да только много воды с тех пор утекло…
Может, и не так много он, Силыч, написал, только в издательствах рукописи с руками отрывают. Народ читает. Любит.
На встречах — яблоку упасть негде. А вот Алексей Максимыч давно уж его не привечает. По долгу, конечно, приглашает куда надо, как сегодня, к примеру. Не забывает. Но всякий раз не преминет и деготку подлить. Чтоб, значит, не зазнавался. «Маститым, — говорит, — Силыч себя считает. Над языком не работает». Да если б не работал он над языком, то кто бы его сейчас знал? А то ведь знают! Знают! Спроси любого, он тебе скажет, кто такой Новиков-Прибой. Особенно теперь, после «Цусимы».
Несколько раз промерив кабинет тяжёлыми шагами, Алексей Силыч вернулся к столу, опустил на него тяжёлый кулак и выдохнул: «Баста! Работать надо!»
Он разложил на столе несколько писем цусимцев, полученных на днях. Бегло он каждое из них, конечно, сразу прочёл. А вот теперь надо бы получше, поподробнее… Кое-что любопытное там есть. Не сказать, чтоб это было что-то новое для него, но подумать стоит. Особенно вот над этим.
Два тетрадных листа в косую линейку были густо исписаны фиолетовыми чернилами. Почерк был, мягко говоря, не очень разборчив, буквы чуть ли не сливались в длинные прямоугольники слов с вырывающимися вверх и вниз стрелками и петельками, которые позволяли узнать такие буквы, как «в», «д», «у», вот и славно, уже хорошо… да-а… хорошо-то хорошо, да ничего хорошего… и уж если говорить об истинной народности… Стоп! Полный назад! Только письмо — и ни о чём другом!
Алексей Силыч углубился в написанное, отмечая остро отточенным карандашом на полях те места, к которым потом стоило вернуться ещё раз. Иногда он приговаривал вслух: так, так; иногда: ну, это ты, братец, загнул. А мысли его снова и снова возвращались к Горькому.
Да-а, Алексей Максимыч, что ж я тебе покоя не даю? Не нравится, что народ читает? Да вот читает. А критики критикуют, не устают. Горький, ладно, имеет право. А эти-то? Сами-то хоть строчку напишут, чтоб за душу взяло? Вот то-то.
Алексей Силыч вытряхнул из пачки новую папиросу, смял, как обычно, глубоко, с наслаждением затянулся.
Послать их всех куда подальше да внимания не обращать. Ему с ними детей не крестить. Слишком много у него работы, чтоб на всех шавок-варшавок[1] отвлекаться. Одних писем сколько. Благодарят, между прочим. За правду. За народность. А на кораблях как встречают! Книжки его до дыр в судовых библиотеках зачитывают. Не зря, между прочим. Уж что-что, а море никто так из нынешних не знает и никто про него так не напишет, как он, Силыч. Потому что есть, что писать, потому что повидал столько, сколько вам, господа хорошие, ни в одном страшном сне не приснится. Правду говорят: идёшь на войну — помолись, а уходишь в море — помолись дважды… Так-то…
А Лексей Максимыч-то со своим Климом Самгиным заморочился, не до народа, всё хочет Пильнякам да Бабелям угодить. Теперь они у нас знают, как писать надо. Главное, чтоб издёвки побольше над русским мужиком да чтоб позаковыристей… Тому ли ты нас на Капри учил, товарищ Горький? Нет, не тому. Ну-ну, жизнь покажет… Ладно, что у нас там дальше…
И снова зарябили перед глазами фиолетовые строчки… Вот ведь, чертяка, почерк у тебя какой заковыристый, сколько фантазии надо, чтоб разобрать, что же это ты, братец мой, написал… Но ничего, мы народ упрямый, одолеем, чай не впервой…
Мария всё под дверью дрейфует. Чует, что не в духе… А вот не выйдет он из своей боевой рубки… и баста! Не желает ни с кем ничего обсуждать. Не же-ла-ет! Конечно, надо бы как-то помягче с ней. Она-то при чём? Ладно, утрясётся…
…А вот ведь чудно, послал им с отцом Бог жён-иноверок. Полячку да немку. Чудно! Матушка-то, конечно, характером помягче была. Но уж если его, младшего (поди ведь любимого?), отец по крутости характера обижал, мать вступалась. Да как вступалась! Отец, бывало, сразу на попятный: «Ну, развоевалась, Варшава!» Да, много воды с тех пор утекло. Только уж кого не забыть — так это мать… Алексей Силыч смахнул влагу с глаз. Только этого не хватало! Не пристало мужику, которому скоро 60 стукнет, нюни распускать. Он снова закурил, сел поудобнее в кресло, закрыл глаза…
Вот идут они с матерью из монастыря… Написал уже всё об этом, а не отпускает… Столько лет не отпускает. Думают, про матроса рассказ, да про море, да про судьбу… А рассказ-то про мать. Всё он помнит, что тогда в двадцатом в Барнауле написал, до словечка помнит. Часто на встречах читает — да не читает, листки только для виду перед глазами держит. Он всегда всё наизусть помнит. Память, слава богу, не подводит пока.
«Давно это было, ещё в детские годы…
Помню — тихий летний вечер. Мы с матерью вдвоём, с сумками за плечами, только что покинув монастырь, куда ходили молиться Богу, возвращаемся в своё село. Дорога, извиваясь, идёт красивым бором. Стройные сосны, подняв в безоблачную высь зелёные кроны, кадят солнцу пряным ароматом смолы. Золотой дождь лучей, пробиваясь сквозь вершины леса, падает на серебристую скатерть мха, расписывая по ней узоры, запутанные, как сама жизнь»[2].