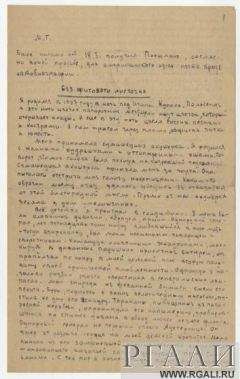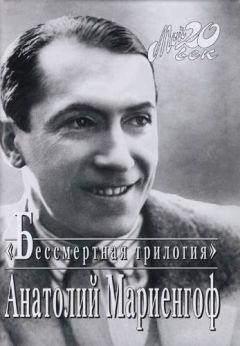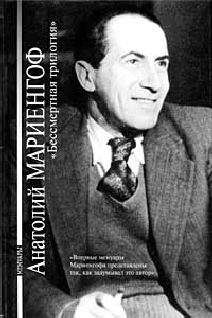Анатолий Кудрявицкий
«ТРУБАМИ СЛАВ НЕ ВОСПЕТЫ…»
МАЛЫЕ ИМАЖИНИСТЫ 20-х ГОДОВ
Сейчас трудно поверить, что были в нашем веке времена, когда имажинист Сергей Есенин говорил имажинисту Анатолию Мариенгофу: «Эпоха-то наша!»
Эпоха ушла в небытие, об имажинистах в годы тотального контроля за умами упоминать было не принято, Есенина сперва замалчивали, затем высветили «фанфарами света» как народного поэта, заодно всеми силами отмывая от «родимых пятен» имажинизма.
Но была та эпоха, была! Имена Мариенгофа, Вадима Шершеневича, Александра Кусикова, Рюрика Ивнева, не говоря уже о самом Есенине, гремели по всей стране, в некоторых городах создавались имажинистские группы — подобия московской. Объединяла эти группы — в частности, московскую и Петроградскую — общность эстетических воззрений, нашедшая отражение в основном программном документе имажинистов — воронежском «Манифесте» 1919 года. «Утверждаем, что единственным законом искусства, единственным и несравненным методом является выявление жизни через образ и ритмику образов, — декларировали имажинисты. — Поэт работает словам, беромым только в образном значении». Пятерка названных выше имажинистов — «пять великих поэтов», играющих «в тарелки лун», как сами они отзывались о себе, — вошла в литературу ХХ века.
История искусства, однако, знает не только Рембрандта и Рубенса, но и «малых голландцев», творчество которых скрупулезно изучено (причем не только в Голландии). А были ли у нас «малые имажинисты»?
Оказывается, были. И повезло им гораздо меньше, чем «малым голландцам», вниманием они оказались обойдены. Если обратиться к истории московской группы, в воспоминаниях Мариенгофа и Шершеневича можно встретить упоминания еще о нескольких поэтах. Мариенгоф, по свидетельству Ивнева,[1] называл их «молодым поколением» имажинистов. Прежде чем познакомить читателя с их творчеством,[2] представим их.
В числе поэтов, подписавших в 1919 году «Воронежский манифест», был Николай Эрдман (1902–1970). Да-да, тот самый, ставший вскоре замечательным драматургом, автором нашумевших (и выдержавших испытание временем) пьес «Мандат» и «Самоубийца». И, может быть, искристое имажинистское веселье помогло Эрдману найти свое места в литературе. По отзыву Шершеневича, Эрдман «умел острить невозмутимо». Мироощущение будущего комедиографа отразилось в следующих характерных для него строчках:
Сердце — наполненный счастьем киоск
Денных и вечерних известий.
А в его стихотворении «Хитров рынок» перед читателем предстает мир будущих пьес Эрдмана — советские мещане, бродяги, мазурики. Писал Эрдман скупо, и стихов его сохранилось очень немного, хотя друзья его вспоминали: в начале двадцатых годов он хотел издать сборник своих стихотворений. Исчезновение текстов объяснить легко — в последующие годы исчезали не только стихи, но и люди.
Пожалуй, наиболее даровитым из молодого поколения московских имажинистов был Матвей Ройзман (1896–1973). К движению он присоединился в1920 году. Как вспоминает Шершеневич,[3] Ройзман «взялся за дела горячо… и скоро выдвинулся из рядов молодежи». В 1922 году вышел в свет стихотворный сборник Ройзмана и Шершеневича под интригующим названием: «Мы Чем Каемся». Цензура, составив из первых букв аббревиатуру МЧК, книгу запретила, чем лишь способствовала росту популярности поэтов. Имажинисты вообще любили «скандальчики» — вспомним, как они самовольно «переименовали» в свою честь московские улицы. Мандельштам лишь мечтал об «улице Мандельштама», а Есенин, Кусиков и иже с ними просто повесили таблички с новыми названиями на центральных улицах Москвы. Обошлись без всякого Моссовета. Говорят, «Есенинская» и «Кусиковская» провисели долго… В другом случае Ройзману, напротив, довелось погасить назревавший скандал — он с присущим ему тактом помирил Есенина с Пастернаком, когда те в очередной раз прилюдно ссорились.
Стихи Ройзмана своеобразны — ни у кого из имажинистов (может быть, кромe Есенина) не найдешь столь болезненной тяги к Красоте:
И тужи, и плачь о прошлых,
О пунцовых песнях сентября!
Поэт жалеет, что «Заперта Россия в северную плесень», в душе его живет «мечта о библейском Востоке», побуждавшая его создавать столь гармоничные стихотворения, как «Пальма». Но в родной стране поэт ощущает не только «радость гибкую», но и «вековую боль». Есть у Ройзмана и пророческие строки (1924 года):
Преображенная Россия
Сбирает звезды в короба.
И, чтобы читатель не думал, что речь идет о каких-то поэтических красотах, поэт поясняет:
…рыбкой в коробе трепещет
Моя мятежная звезда.
Мы хорошо знаем, в какие короба собирали «звезды» в 1937 годy и даже раньше. Сам Ройзман уцелел — ценой отказа от поэзии. Выпустив в 1925 году последний, четвертый поэтический сборник «Пальма», он в дальнейшем писал прозу — сначала «нашумевший», по отзыву Шершеневича, автобиографический роман «Минус шесть» (1928), а в тридцатых годах — идеологически выдержанные приключенческие романы, после войны перейдя вообще в детективный жанр. И можем ли мы его за это осуждать? Так замолк один из самых интересных «поэтических голосов» среди имажинистов.
Но бывало и по-другому. Примером тому — судьба талантливого крестьянского поэта Алексея Ганина (1893–1925), вслед за своим другом Сергеем Есениным «попробовавшего себя» в имажинизме. Вместе с Есениным и Мариенгофом он участвовал во втором имажинистском коллективном сборнике «Конница бурь», затем выпустил несколько рукописных сборников своих стихов. Манеру Ганина трудно назвать оригинальной — слишком уж захватила его есенинская песенная стихия; однако отметим, что Ганин не только умелый версификатор, но и тонкий лирик.
Конец Ганина был трагичен. П. Мансуров[4] в письме к О. Синьорелли[5] (Минувшее. Исторический альманах. М., 1992, № 8) приводит рассказ С. Есенина: «…Меня вызвали в ЧК, я пришел, и меня спрашивают: вот один молодой человек, попавшийся в „заговоре“, и они все, мальчишки, образовали правительство, и он, eго фамилия Ганин, говорит, что он поэт и ваш товарищ, что вы на это скажете? Да, я его знаю. Он поэт. А следователь спрашивает: хороший ли поэт? И я, говорит Есенин, ответил не подумав: товарищ ничего, но поэт говенный». «Ганина расстреляли, — продолжает Мансуров. — Этого Есенин не забыл до последней минуты своей жизни». Верить ли этому рассказу? Если все так и было, значит, история и впрямь повторяется — вспомним знаменитый сталинский вопрос о Мандельштаме: «Мастер или не мастер?»