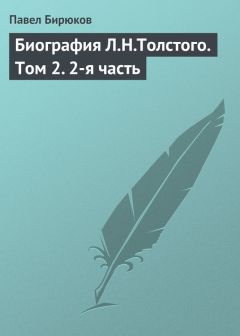Павел Иванович Бирюков
Биография Л. Н. Толстого. Том 2. 2-я часть
Глава 11. Частная и семейная жизнь Льва Николаевича в начале 70-х годов
В четвертый раз мы возвращаемся к этому богатому по деятельности и напряженной энергии периоду жизни Л. Н-ча в 70-х годах, чтобы дополнить ее описанием различных мелких фактов личной и семейной жизни Л. Н-ча. Мы выделяем их в особую главу, так как эти факты могли бы нарушить изложение тех главных событий в жизни Л. Н-ча, которым посвящены предыдущие главы этого периода. Перед нами протекут сами по себе неважные, малозначительные факты из жизни Льва Н-ча, но которые мы не находим возможным упустить, так как они создают общую картину его семенной жизни, той среды, в которой он жил, и подготовляют переход его к жизни в новой области его сознания.
Семейная жизнь Л. Н-ча именно в 70-х годах достигла своей определенной формы. В 60-х годах она еще не успела установиться. Детский вопрос еще только назревал, а все духовные интересы, оставшиеся свободными от удовлетворения первыми семейными радостями, поглощались гигантской работой над «Войной и миром».
К началу же 70-х годов назрел вопрос воспитания детей, литературные работы уже не поглощали его так без остатка, как прежде, и семейно-хозяйственные интересы и связанные с ними заботы и хлопоты создали целую новую область отношений. В конце 70-х годов во Л. Н-че снова подымаются прежние вопросы, мучившие его еще до женитьбы, его внутренняя жизнь приближается к кризису, семейная жизнь надламывается, и 80-ые годы уже не представят нам той целости и гармонии в жизни его семьи.
Вот почему мы дольше, подробнее останавливаемся на этой эпохе. Она даст нам факты, которые больше не могут повториться.
В мае 1870 года Л. Н-ч писал Фету:
«Я получил ваше письмо, любезный друг Афанасий Афанасьевич, возвращаясь потный с работы, с топором и заступом, следовательно, за тысячу верст от всего искусственного и в особенности от нашего дела. Развернув письмо, я первое прочитал стихотворение, и у меня защипало в носу; я пришел к жене и хотел прочесть, но не мог от слез умиления. Стихотворение – одно из тех редких, от которых ни слова прибавить, убавить или изменить нельзя, оно живое само и прелестно. Оно так хорошо, что мне кажется, это не случайное стихотворение, а что это первая струя давно задержанного потока. Грустно подумать, что после того впечатления, которое произвело на меня это стихотворение, оно будет напечатано на бумаге в каком-нибудь «Вестнике», и его будут судить С-ны и скажут: «А Фет все-таки мило пишет».
«Ты нежная…» Да и все прелестно. Я не знаю у вас лучшего. Прелестно все. Я только что отслужил неделю присяжным, и было очень, очень для меня интересно и поучительно.
Вы спрашиваете моего мнения о стихотворении, но ведь я знаю то счастье, которое оно вам дало сознанием того, что оно прекрасно, и что оно вылезло все-таки из вас, что оно – вы. Прощайте, до свиданья».
Летом 70-го года началась франко-прусская бойня. Мы знаем, что Л. Н-ч живо интересовался событиями войны, сочувствовал французам и был убежден в их победе. Ненависть к прусскому милитаризму давала и тут себя знать.
Мы упоминали уже, что зимой 70-71-го года он с увлечением занимался изучением греческого языка и, расстроив свое здоровье, должен был предпринять поездку на кумыс.
Увеличение семьи потребовало, наконец, расширения дома. В конце 1871-го года была сделана к дому пристройка, которая составляет теперь наверху яснополянского дома залу, а внизу – прихожую и библиотеку. Окончание этой пристройки было отпраздновано на рождественских праздниках съездом родных и гостей и ознаменовалось маскарадом, в котором принимал участие и сам Л. Н-ч. В общество гостей явились внезапно ряженые: вожатый с двумя медведями и козой. Вожатым был Дм. Ал. Дьяков, медведями – Иславин и родственник Толстой, а козой, к общему удивлению и восторгу, – сам Лев Николаевич.
Начало 1872 года застает Л. Н-ча в грустном, но глубоко серьезном настроении. Вот одно из замечательнейших его писем к Фету, выражающих с необыкновенною ясностью его психологический момент, его ищущую, но еще не просветленную душу, сильную своей правдивостью, не боящеюся называть вещи своими именами:
«Уж несколько дней, как получил ваше милое и грустное письмо и только нынче собрался ответить.
Грустное, потому что вы пишете – Тютчев умирает, слух, что Тургенев умер, и про себя говорите, что машина стирается и хотите спокойно думать о нирване. Пожалуйста, известите поскорее, фальшивая ли это была тревога. Надеюсь, что да, и что вы без Марьи Петровны маленькие признаки приняли за возвращение вашей страшной болезни.
О нирване смеяться нечего и тем более сердиться. Всем нам (мне, по крайней мере), я чувствую, она гораздо интереснее, чем жизнь, но я согласен, что сколько бы я о ней ни думал, я ничего не придумаю другого, как то, что эта нирвана – ничто. Я стою только за одно – за религиозное уважение, ужас к этой нирване.
Важнее этого все-таки ничего нет.
Что я разумею под религиозным уважением? – Вот что. Я недавно приехал к брату, а у него умер ребенок и хоронят. Пришли попы, и розовый гробик, и все, что следует. Мы с братом невольно выразили друг другу почти отвращение к обрядности. А потом я подумал: ну, а что бы брат сделал, чтобы вынести, наконец, из дома разлагающееся тело ребенка? Как вообще прилично кончить дело? Лучше нельзя (я, по крайней мере, не придумал), как с панихидой, ладаном и т. д. Как самому слабеть и умирать? Мочиться под себя, п… больше ничего? Нехорошо. Хочется вполне выразить значительность и нежность, торжественность и религиозный ужас перед этим величайшим в жизни каждого человека событием. И я тоже ничего не могу придумать более приличного для всех возрастов, всех степеней развития, как обстановка религиозная. Для меня, по крайней мере, эти славянские слова отзываются совершенно тем самым метафизическим восторгом, который ощущаешь, когда задумаешься о нирване. Религия уже тем удивительна, что она столько веков, стольким миллионам людей оказывала ту услугу, наибольшую услугу, которую может в этом деле оказать что-либо человеческое. С такой задачей как же ей быть логической? Но что-то в ней есть. Только вам я позволяю себе писать такие письма. А написать хотелось, и что-то грустно, особенно от вашего письма.
Напишите, пожалуйста, поскорее о вашем здоровье.
Ваш Лев Толстой».
30 января 1872 года.
Я ужасно не в духе. Работа затеянная страшно трудна, подготовки изучения нет конца, план все увеличивается, а сил, чувствую, все меньше и меньше. День здоров, а три нет».
Конец зимы и весну, как мы видели. Л. Н-ч был занят школой и окончанием своей «Азбуки», которую он потом сдал для издания Н. Н. Страхову.