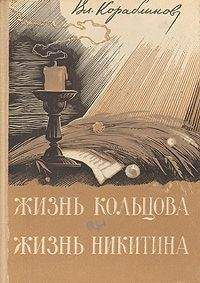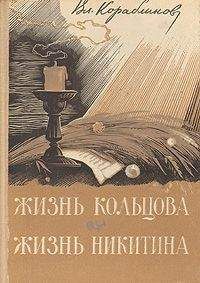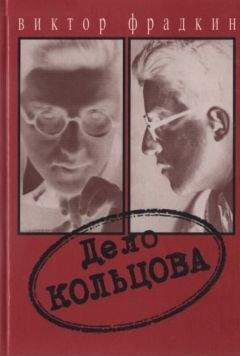Он снял венок и бросил его наземь. Хоровод, до тех пор молчавший, стал ходить, и все запели:
Ой ты, батюшка, пойди,
Венок подыми!
Батюшка не захотел идти подымать, и парень стал опять ходить в круге. Он пел, упрашивал матушку поднять венок. Однако и матушка не подняла. Тогда парень в черной поддевке жалобно загоревал:
То – горе мое,
Гореваньица!
Головка моя
Спобедненькая!
Сердечко мое
Занывчатое,
Занывчатое,
Надрывчатое!
В избах услышали песню, и вскоре вокруг хоровода собрался народ. Старики стояли, важно опершись на длинные палки. В лугах перекликались дергачи, майские жуки гудели в прозрачном воздухе, ребятишки бегали за ними по выгону, сбивали их ветками. Бесшумно, словно во сне, мелькнула летучая мышь, на колокольне раза два жалобно крикнул сыч.
Кольцов тихонько отошел к изгороди, облокотился на слегу. Какая-то сладкая тоска охватила его, сжала сердце, заглушила все шумы. Медленно-медленно поплыли длинные звуки. Он вздрогнул: что это? «Часы», – догадался и поглядел на колокольню. Возле нее росли сосны. Их верхушки вырисовывались на лунном небе, как узорные, резные крыши теремов. С необыкновенной ясностью прозвенела строчка стиха. Кольцов легко вздохнул и улыбнулся. Вынул из-за пазухи потрепанную тетрадку и, послюнив огрызок карандаша, принялся записывать.
Мишака увидел, что Кольцов стоит один.
«Вишь ты! – с обидой подумал, – Шумел: гулять будем, а сам ушел». Кольцов стоял неподвижно, спиной к хороводу и что-то вроде бы разглядывал на ладони. Вроде бы напевал что-то. «С бусорью малый!» – весело рассудил Мишака и подобрался поближе.
Кольцов в самом деле пел:
Там, где терем тот стоит,
Я люблю всегда ходить…
Ночью тихой…
Запнулся, почеркал в тетрадке.
Ночью тихой, ночью ясной,
В благовонный май прекрасный, —
продолжил вполголоса. Напев был знакомый: «Ты стой, моя роща».
– Славная песня, – похвалил Мишака – Я такой не слыхивал.
– Да я, брат, и сам ее только-только схватил, – словно прислушиваясь к чему-то, сказал Кольцов.
– Ну-ка, ну-ка, – не отставал Мишака, – далее-то, далее как?
Ах, в том тереме простом…
Несколько парней подошли к ним и, послушав немного, стали подпевать.
– А что, – разошелся Мишака, – нешто девок кликнуть?
– Верно, верно, – раздались голоса. – Домашку, Любушку… Эти – мастерицы!
Вместе с девушками приплелся и Тимоша. Мишака запел, парни подхватили. Сперва робко, затем смелее вступили девичьи голоса, и уже слова:
Ах, в том тереме простом…
Есть с раскрашенным окном
Разубранная светлица,
В ней живет душа-девица, —
пропели ладно, уверенно, и Тимоша затейливо вывел жалобный напев на простецкой своей, но такой говорливой жалейке.
– Стой! Стой! – крикнул вдруг Мишака. – Ты, Любушка, знаешь, пожалостней тут… Ну-ка, лапушка, ну-ка!
залились Любушка с Мишакой, —
– Эх, ты! – бросил жалейку Тимоша. – Спасибо и спасибо! – низко поклонился Кольцову. – Отогрел душу, милый же ты человек!
Когда Алексей собрался ехать к гурту, оказалось, что Мишака пропал. Возле изгороди на выгоне стояла одна кольцовская Лыска, Мишакиного мерина не было.
«Наверно, вперед уехал», – решил Кольцов и, попрощавшись с каменскими певцами, шагом поехал по улице к реке.
Село кончилось, над лугами шевелился туман. Кривою богатырской саблей сверкнула излучина Дона. «Вот и сложили песенку», – подумалось радостно. Над головой мелькнула ночная птица. А песня? Не та же ль птица? Не схватил – пролетела навсегда. И где, в какой дальней дали искать ее?
Кобыла отфыркнулась, чуя воду.
– О-го-го-о! – закричал Кольцов, привстав на стременах.
Никто не отозвался. Он переплыл Дон, расседлал лошадь и позвал старика.
– Аиньки? – откликнулся из шалаша Пантелей.
– Приехал Мишака? – спросил Кольцов.
Старик вылез из шалаша, почесываясь, поглядел на луну.
– Ишь ты! – сказал одобрительно. – Долго гулял… А Мишаки нету, не приезжал. Да он что! Он у солдатки ночует… Он, брат, ухо-парень, Мишака-те! – с восторгом воскликнул Пантелей и захохотал.
Проводив сына, Василий Петрович надел новый демикотоновый, табачного цвета кафтан, пуховую поповскую шляпу, подпоясался красным кушаком и пошел к Сократу Митрофанычу Девочкину.
Знакомством и дружбой с Сократом Митрофанычем старик Кольцов очень гордился, потому что Девочкин был дворянином и служил столоначальником в гражданской палате.
Было еще рано. Девочкин сидел в халате на крыльце своего дома и кушал кофе с крендельком. Возле крыльца громадный индюк и с десяток кур подбирали крошки,
– Чай да сахар! – возгласил Василий Петрович, поднимаясь на крыльцо.
– А! – прохрипел Девочкин. – Милости просим. Кофейку не угодно ли?
– Покорнейше благодарю, – поклонился Василий Петрович. – Только от чаю. А я к вам, Сократ Митрофаныч, по дельцу-с…
Девочкин допил кофе и закурил длинную трубку.
– Тэк-с, – сделал губы колечком и дохнул дымовой струйкой. – Готов служить. Что у тебя за дело?
– Да дело-то, Сократ Митрофаныч, немножко для вас беспокойное: купчую надо выправить. Хочу Пелагею с Авдотьей продать, а как они записаны на ваше имя, то осмелюсь вас потревожить: не откажите совершить документацию.
Девочкин бывал у Кольцовых. Знал, что старик дорожил своей стряпухой, знал, что и Дуня у них росла, как своя. Поэтому он удивленно вытаращил рачьи глаза:
– Денег, что ли, нету? С векселями прижали? Так что ж ты мне ни слова? Я бы ссудил…
– Нет-с, – поджимая губы, вздохнул старик. – Дело не об деньгах, а более политичное… Скажу по совести, как на духу-с: Алексей задурил. Вбил себе в голову на Дуняшке жениться. Конечно, молодость, дурак малой, кровь играет. Только при нашем деле это баловство ни к чему-с!
Девочкин курил молча.
– М-да-а… – протянул с усмешкой. – История… Только это вроде, как бы сказать… тово… ну, не по-христиански, что ли…
– В нашем деле это ни к чему, то есть баловство это, – упрямо повторил Василий Петрович. – Эх-ма! – хлопнул по лбу. – Из памяти вон! Я ведь, Сократ Митрофаныч, вам должок принес…
Он вынул четвертной билет и положил на стол. Девочкин промычал что-то неопределенное и сунул бумажку в карман.
– Только дельце-то наше, – настойчиво продолжал Василий Петрович, – оченно, сударь, спешное. Как ни поверни – все нынче закруглить надо. И купец торопит, да и мне, ежли по совести, не терпится… Так уж я, Сократ Митрофаныч, покорнейше прошу…