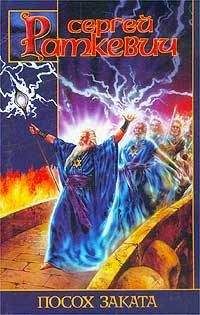Все эти ободрения были пустяками для него. Самое страшное — собственное о себе мнение.
Реабилитация в собственных глазах проходила быстрыми темпами. Уже недели через две он говорил мне: «Для такого поступка мужества надо поболее, чем для интервью западному журналисту».
— Ну, — ответила я жестоко, — не надо увлекаться. Этак и стукачей можно наделить мужеством.
И сейчас вспоминаю, как он смешался и замолк. Как сошла с его лица мимика убежденной кафедральности. Я почти никогда не бывала с ним резка. Три раза припоминаю лишь, когда я жестоко обошлась с ним. И жалею об этом.
А книжка «Московские облака» была сдана в набор 17 апреля 1972 года.
Три давления совместились в этом печальном инциденте с письмом: не печатали здесь, грозила полная немота; печатали там — жалкими кусочками, без согласия автора, «спекулируя на чужой крови»; немалую роль сыграло и раздражение против «ПЧ», против этой истеричной и глупой публики, толкавшей его на Голгофу.
Но, написав, что «колымская тематика исчерпана жизнью», он продолжал писать «Колымские рассказы-2». И впереди был 1973 год, который он называл одним из лучших, счастливейших в жизни. В этот год было написано особенно много стихов, несколько толстых тетрадей: «Топор» («Орудие добра и зла…»), «Стихи — это боль и защита от боли…», «Она ко мне приходит в гости…», «Мой лучший год…» и, наконец, «Славянская клятва». Клятва верности себе, делу своей жизни.
Летом Варлам Тихонович любил ездить в Серебряный Бор. Там он купался и загорал. Плавал он хорошо, загорал совершенно неосторожно, дочерна. Изредка мы ездили купаться вместе. Он всегда бывал на том пляже, что на другой стороне Москвы-реки. Как он явно блаженствовал на берегу реки, как упивался своей ловкостью в воде, как остро наблюдал все происходящее вокруг. Рассказ «Жук» — о Серебряном Боре. Вот так, с пристальным вниманием к каждому человеку, к каждой травинке, букашке он всматривался в окружающее.
Однажды по дороге на пляж нас обогнали баскетболисты. Они шли, возвышаясь над всеми, отрешенные от пляжной суеты и о чем-то непонятном спортивном говорили. В.Т. сказал: «Инопланетяне».
Он любил реки, их вечное движение, их разговор. Он не любил холодное, серое Охотское море. Не очень понравилось ему море и в Сухуми, где он бывал у своей сестры, Галины Тихоновны Сорохтиной, в 1957 году.
В 1973 году он вступил в Союз писателей СССР и смог получать литфондовские путевки в Коктебель и Ялту, которыми вплоть до осени 1978 года неукоснительно пользовался. Комфортабельная писательская жизнь произвела на него сильное и приятное впечатление. Воображаю, как неуместно выглядел он на закрытом для прочих пляже. В 1974 году, отправляясь в Коктебель, он написал мне литературное письмо: «Я еду в Коктебель не для того, чтобы тревожить тени Волошина и Грина…» Это мне не понравилось. Какая-то чужая нота.
Крым я любила нежно. Мы с детьми в 60-е годы не один раз объехали его от Феодосии до мыса Сарыч. И почти вся моя переписка с В.Т. в 60-е годы — из Крыма и в Крым. Эти старые тропы, заросшие плоскими кактусами, развалины башен, застывшие камнепады, пустынные (тогда) берега. Я просыпалась утром рано, чтобы золотая дорожка от встающего солнца протянулась к моим ногам.
В.Т. не полюбил Крыма, не почувствовал его неизреченной древней прелести. Он не любил природу. Было какое-то глазное, рассудочное общение с ней. Любить — это, мне кажется, ощущать себя частью ее, растворяться, чувствуя свою связь с небом и землей. Он был внимателен к дереву и камню, наблюдателен, использовал природу, ее явления в своих стихах для передачи каких-то оттенков человеческих чувств, но потребности душевного общения с природой у него не было.
Универсальное средство
В.Т. спросил меня однажды: «Ты думаешь — в лагере я ругался?» Я ответила: «Нет, наверное».
— Одним из самых отчаянных ругателей я был. И дрался. Тут в трамвае мне на ногу наступили, я такое выдал, парень в столбняк впал…
Плюха — была его универсальным, хоть и теоретическим средством решения всех проблем.
— Этой сволочи (ПЧ) плюху прямо на пороге дать — только так от нее избавишься…
— Встретил Молотова в Ленинской библиотеке. И — не дал ему плюху! Встретил — и не дал!
Даже буквально в последние дни он пытался, размахивая руками, отогнать от себя «наседку» в доме инвалидов: «Уходи, ты мне надоела!»
Плюха — моментальное решение проблемы, а это было в характере В.Т., не терпящем неясностей и проволочек.
— Все ищут во мне тайну. А во мне нет тайны, во мне все просто и ясно. Никаких тайн.
Тайн он не терпел, хотя, конечно, умел молчать, когда надо. Но всякие кивки, намеки, таинственные недомолвки безмерно его раздражали.
— Я привык с жизнью встречаться прямо. Не отличая большого от малого.
Был у него очень добрый друг и поклонник таланта — Яков Гродзенский. Жил он в Рязани. И была у него страсть объясняться с подтекстом. Дескать, я понимаю, сказать можно не все, но я понимаю. В.Т. жутко раздражался, хотя «Яшку» любил.
Однажды я пришла и застала В.Т. в глубокой молчаливой грусти (а молчалив В.Т. не был, всегда бурлила в нем жажда высказаться). «Яшка умер», — сказал В.Т. Было это, кажется, году в 1970-м.
Его мнения о себе были столь же противоположны, сколько противоположностей заключал его характер.
Как-то я отозвалась хорошо о Юрии Осиповиче Домбровском. Он обидчиво и очень запальчиво сказал: «Я лучше всех людей!» Потом подумал и поправился: «Лучше меня только ты».
Что главное ценил в себе: верность, нравственную твердость («не предал никого в лагере, не донес, на чужой крови не ловчил»). Талант. «Я тот сапожник, рожденный, чтобы стать Наполеоном, как у Марка Твена. Я собирался стать Шекспиром. Лагерь все сломал».
Но иногда он впадал в уничижение и говорил иное: что он неблагодарный, капризный, и я думаю о нем гораздо лучше, чем он заслуживает. Что он растоптанный человек, собравший себя из кусков, что он непоправимо искалечен лагерем.
Готовя его рукописи к изданию, я вижу, насколько его стиль выражает его личность. Даже подбор любимых эпитетов: твердый, лучший, энергичный, любой, высший… Стремление к абсолюту, к невозможной непреложности, к высшей точке…
Таков и ты, поэт.
Страсть и рассудочность, стихия, поток — и самоограничение беспрерывное. Серьезность до последней мелочи. Полное отсутствие чувства юмора. Суеверный. Косноязычие шамана присуще порой его стихам — что-то с трудом пробивается в мысль, в слово, что-то, едва переводимое в слова.