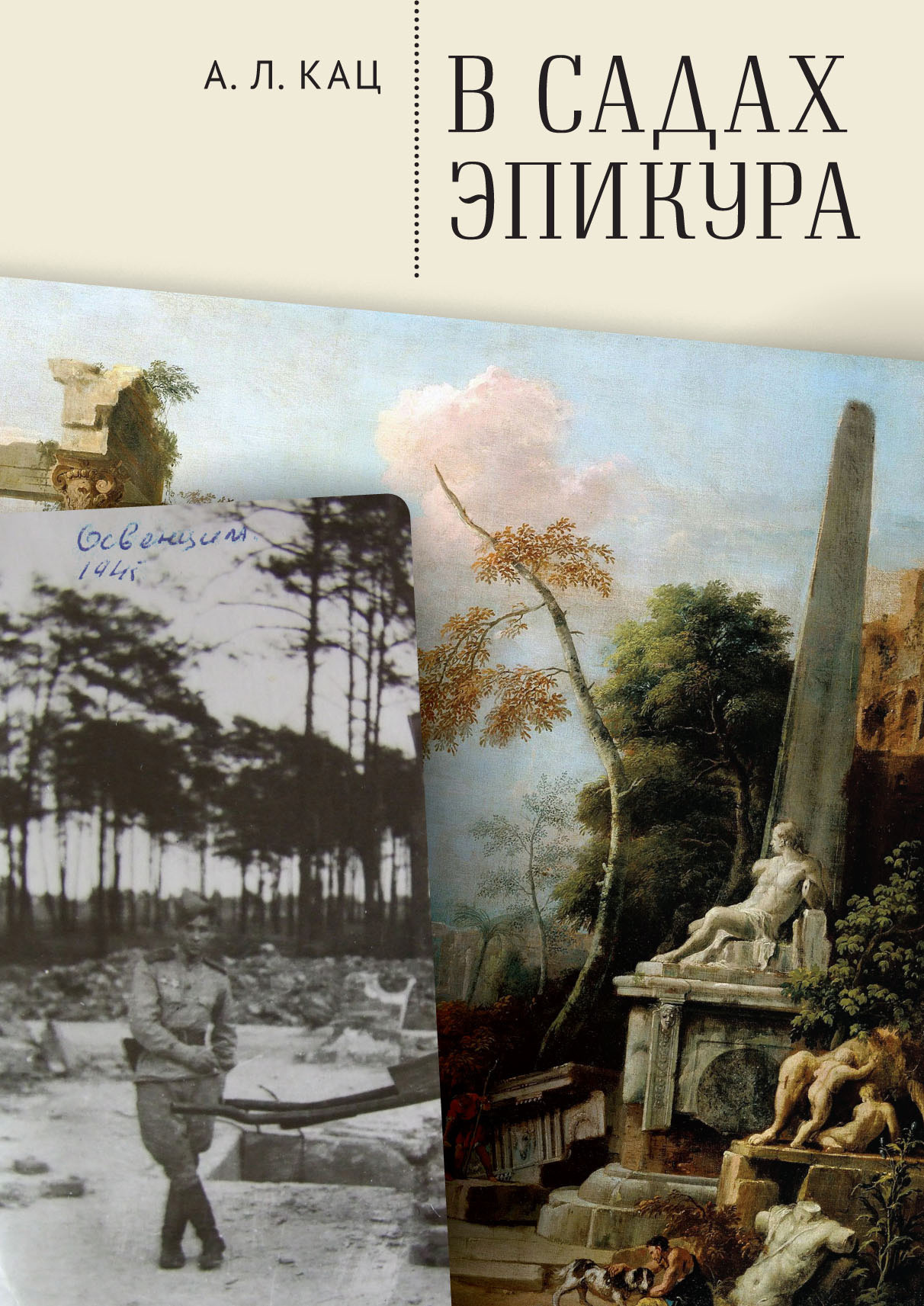школьного педолога [2], мне надлежало быть законченным идиотом. Этот вывод явно вытекал из проведенного надо мной эксперимента. Наша соседка Клавдия Филипповна Зыкова – детский врач, ставившая эксперимент, потряслась до глубины души. Она наблюдала меня каждый день дома и где угодно и не замечала никаких отклонений от нормы, а между тем мне надлежало быть идиотом: на листке бумаги с изображениями кружков и крестиков мне надлежало проколоть иголкой кружки: в этом случае я доказал бы свое право считаться нормальным. Я же проколол, по легкомыслию, кружки, крестики и палец. Наука зашла со мной в тупик. Кто-то из нас был дефективным – наука или я. Сначала не повезло мне, потом науке.
В 1932 г. мне исполнилось десять лет. Дни моего рождения обычно отмечались торжественно. Мне делали подарки, приглашали гостей. Десятилетие праздновали особенно. Отец сказал: «Лёша прожил десятую часть жизни». Открыли маленькую шкатулку, которую Кирюшка именовал громким словом «сейфус». В ней хранились семейные реликвии: какие-то золотые и серебряные вещички. Их имелось меньше, чем у скупого рыцаря, и мы чувствовали себя спокойно. (Правда, я некоторое время копил серебряные полтинники и собрал их рублей на двадцать. Когда стало известно, что даже А. С. Пушкина вызывали в ОГПУ, мать, в моем сопровождении, отнесла эти полтинники в сберегательную кассу и положила на книжку. Помню, там сказали: «Ценные вещички принесли, и своевременно».) Так вот, отец еще раз пересмотрел семейный золотой запас и кое-что отобрал. Мы отправились в торгсин (так назывались магазины, где можно было купить все, что угодно, за золото, серебро или иностранную валюту. Торгсин – значит торговля с иностранцами). В торгсине отец сделал покупки: приобрел даже сильную электрическую лампочку. Торжество требовало соответствующего освещения. Петровы отвели для праздника большую комнату. Мать жарила голубей, намереваясь выдать их за рябчиков. Отец приставил к стене столик и устроил на нем выставку подарков. Вечером собрались гости: мои приятели, вся наша семья, Петровы, Сергей Александрович. Долго и хорошо веселились.
Я не пишу историю. Я вспоминаю. Однако то, что я наблюдал в детстве, сумел осмыслить гораздо позднее. Поэтому я намерен излагать осмысленные воспоминания. Это не значит, что я буду преувеличивать. По-моему, смешно длинный ряд преступлений, совершенных с высоты государственной власти, и ловко именуемых «культом личности», объяснять дурным характером Сталина, помноженным на невиданные успехи социалистического строительства. Ничего не объясняет и тот факт, что органы государственной безопасности оказались в руках политических проходимцев. И Ягода, и Ежов, и Берия, при всей их беспринципности и свирепости, не более, чем палачи. Дело в другом. Многовековая история деспотизма свидетельствует: кровавые правители возникали и держались там, где они были нужны достаточно узким группировкам людей, боровшимся за власть. Это не общественные классы в их марксистском понимании. Это себялюбивые, эгоистичные политические малины. В Римской империи не существовало общественного класса, нуждавшегося в полубезумце Калигуле. Точно так же во Франции не было класса, которому бы нравился Карл IX, учинивший Варфоломейскую ночь. Таких пустяковых примеров можно привести множество. Сильная власть не равнозначна беззаконию и политическому произволу. Произвол – требуется кликам, они его и создают. Римский поэт первого века империи Марциалл сказал хорошо:
«И царей и владык иметь обязан,
Кто собой не владеет и кто жаждет,
Чего жаждут цари или владыки.
Коль раба тебе, Ол, совсем не нужно,
И царя тебе, Ол, совсем не нужно».
Впрочем, к этому я вернусь позже, а сейчас – факты.
Массовые аресты среди интеллигенции начались в самом начале 30-х гг. вне всякой связи с убийством С. М. Кирова. Ушло в прошлое, упоминавшееся мной, слово лишенец, зато вошло в быт – вредитель, а позднее – враг народа. Выяснилось, что враги народа гнездятся чуть ли не в каждом особнячке поселка Сокол. Ежедневно арестовывали новых и новых людей. Отец недоумевал: «На что надеются?» Речь шла о тех, кто обвинялся во вредительстве и враждебной деятельности, отец не сомневался в обоснованности действий органов безопасности. Стали арестовывать знакомых, потом аресты прокатились по учреждению, где работал отец. Взяли нашего ближайшего знакомого, сослуживца отца Василия Ильича Кудрявцева. К нам в дом незаметно вползла тревога. Если отец задерживался на работе, из угла в угол начинала ходить мать, я не находил себе места. И то, что казалось абсолютно безумным, и вместе с тем с ужасом ожидалось – свершилось. Вечером 14 февраля 1934 г. я, как обычно, лежал в постели, готовясь уснуть. Спали мы вместе с отцом. Он задерживался. Пришли от соседей Зыковых и позвали мать к телефону. Она вернулась и зашла к Петровым. Собственно, мне стало все ясно и, когда она вошла в комнату и заломила руки, я вцепился зубами в подушку, а потом закричал. С того момента и до сегодня я испытываю ноющую боль в сердце. Отца арестовали. Несколькими месяцами позднее я узнал, как это произошло. Все оказалось необычайно простым. Отца пригласили в кабинет нового главы учреждения, где он работал (старый уже сидел в тюрьме). Здесь ему очень корректно сообщили, что он арестован. С двумя мужчинами в штатском отец спустился к подъезду. Здесь ждал отличный легковой автомобиль, который и отвез отца к наводившему ужас зданию на Лубянской площади – ОГПУ. Отца спросили, какие у него есть пожелания. Нашлось только одно: сообщить домой о случившемся. Эту просьбу исполнили. Так я остался без отца и сразу стал взрослым.
Никаких средств к жизни у нас не было. Мать пошла на работу: устроилась портнихой, а потом приемщицей заказов в ателье, где шили корсеты и бюстгальтеры. Пригодилась приобретенная в детстве и, к счастью, не совсем забытая специальность. Я продолжал ходить в школу, в четвертый класс. Через несколько дней Петька Закалинский спросил меня: «Правда, что твоего отца арестовали?» «Нет, – ответил я. – Он уехал в командировку». Я врал, а зря. Скоро скрывать случившееся стало невозможно, да и не нужно. В классе, в школе я не составлял исключения, скорее подпал под правило. Кто передаст тоску, изъедавшую мне душу? Не было дня, часа, минут, чтобы я не вспоминал отца или не думал о нем. Не было игры, развлечения, подарка, которые могли бы меня хоть немного утешить. Продолжались литературные вечера у Петровых, мать водила меня в кино, Николай Константинович устраивал экскурсии в зоопарк, в Третьяковскую галерею. Я оставался безутешным.
Через месяц, т. е. в середине марта, следствие по «делу» отца закончилось, и он был осужден на десять лет по обвинению во вредительстве. Нам разрешили свидание с