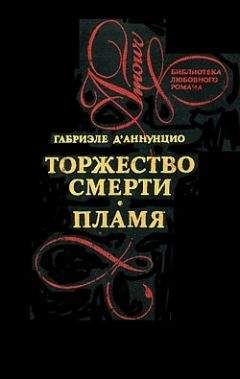Я спросил, почему образок понимает только по-пьемонтски. Она рассмеялась и объяснила мне, что такие святые, как Антоний Падуанский, понимают все языки, даже если они никогда их не учили, ну в точности как Иисус. Это последнее имя было мне знакомо, поскольку я слышал, как его время от времени произносили в нашем доме приглушенным голосом, точно это был обанкротившийся родственник. Я подумал, что пришло время прояснить картину. Аннета выглядела смущенной до крайности. Она объяснила, что Иисус был Божьим сыном, что много лет назад его распяли римляне вследствие предательства его ученика Иуды, что он умер на кресте, а потом воскрес и что от него зависит спасение рода людского. «И даже тех, кто не знает о его существовании?» — спросил я. «Разумеется», — ответила Аннета. В этот момент, раскрасневшись и слегка вспотев, она сняла со стены черное с серебром распятие и дала мне поцеловать его. Это показалось мне странным, но отнюдь не отталкивающим, так как распятие имело сильный привкус лакрицы. Но не Аннета побудила мою мать к крещению. Ее обращение в католицизм было результатом драматических событий времен Первой мировой войны и моего отбытия в Палестину в 1939 году.
Мамина сестра, воспитывавшаяся, как и она, в монастырской школе, крестилась — я думаю, в 1908-м или 1909 году — после долгой борьбы с семьей. В отличие от моей матери, послушной и склонной к мистицизму, тетка обладала беспокойным и агрессивным нравом. Еще будучи совсем молоденькой девушкой, она страстно влюбилась в туринского адвоката, ярого католика, принадлежавшего к аристократической семье. Насчет его происхождения бродили различные ложные слухи, вызванные частично завистью, частично его резким, как внешним, так и психологическим, отличием от двух его братьев. Один из них, известный врач, жил, окруженный атмосферой святости, другой поднялся до высших ступеней иерархии итальянского военного флота. Когда адвокат встретил мою тетку, никто из его семьи еще не успел прославиться. Этот факт, разумеется, вовсе не способствовал согласию родителей на брак их дочери. Их противодействие только усилило ее страсть. Тетка угрожала покончить с собой или удрать с любовником — угроза вполне естественная в буржуазной романтической атмосфере того времени. Вторая возможность была бы еще более позорной для семьи, чем самоубийство, поэтому после смерти моего деда разрешение было дано. Моя тетка крестилась и вышла замуж, а вхождение в семью дяди-христианина сделало внутрисемейные отношения еще более сложными, чем прежде.
Этот матримониально приобретенный дядя был длинным, тощим и страдал от частых приступов ревматизма. Строгий и властный, как подобает его профессии, он не испытывал излишней симпатии к евреям. После убийства Маттеотти[12] он открыто порвал с фашистской партией, которую вначале поддерживал: жест, свидетельствующий как о его политической дальновидности, так и о его крепких моральных устоях. Он определенно не был антисемитом, но для него буржуазно-утилитарный конформизм, развившийся в моей семье по отношению к режиму Муссолини, делало «определенный тип евреев» (по его выражению) невыносимым. Я слишком мало был с ним знаком, не отдавал себе отчета в наших внутрисемейных интригах и не мог высказывать своего мнения о тех суждениях в его адрес, которые я часто слышал вокруг. Его длинное скуластое лицо, агрессия в голосе, которую он часто использовал, чтобы подчеркнуть свою мысль, делали его малопривлекательным. Я его боялся. Перед отъездом в Палестину я пришел к нему попрощаться. Он позволил себе неприятное высказывание в адрес евреев, и это послужило мне основанием порвать с ним, что было несправедливо. После войны он дал мне знать, что хочет встретиться со мной и уладить все недоразумения. Я отказался и был явно не прав. Один из первых пьемонтских интеллектуалов, примкнувших к фашистской партии, и один из первых, кто вернул свой партбилет — поступок решительный и нехарактерный для людей его положения, — он мог бы просветить меня по поводу многих политических и семейных вопросов, на которые я не мог найти ответа в семейных архивах. Но было нечто иное, о чем я узнал только по возвращении из Палестины и из-за чего между нами возник барьер: дядя сыграл важную роль в жизни моей матери.
К моменту, когда вспыхнула Первая мировая война, отец оказался освобожденным от воинской службы и как мэр, и как первенец овдовевшей матери. Сыновний долг не позволил ему в свое время осуществить желание учиться в военной академии. В 1916 году, через полгода после вступления Италии в войну, для него, ярого националиста, проповедующего участие в боевых действиях, было невозможно оставаться дома. Он чувствовал себя пристыженным всякий раз, когда должен был принести в дома поселка известия о смерти близких, известия, поступавшие все чаще и чаще. Событием, побудившим его пойти наконец на фронт добровольцем, оказалась смерть его любимого коня. Когда началась война, армия реквизировала лошадей. Одна за другой они покидали конюшню и отправлялись на фронт, ухоженные, послушные, полные энергии: сначала серая кобыла, на которой отец выезжал на охоту, потом Байар и Арлекин, пара рысаков, запрягавшихся в ландо. Остался только Мавр, замечательный шестилетний вороной мерин, родившийся и выращенный в нашей конюшне. Моему отцу удалось записать его рабочей лошадью, хотя Мавр не тащил за собой ни бороны, ни плуга. Никогда я не мог понять, почему армии, застрявшей в траншеях, понадобилось так много верховых лошадей. Как бы то ни было, все три первые отцовские лошади были отправлены на фронт, и вскоре пришли открытки, извещавшие об их смерти. Каждый раз какой-то офицер, романтик или меланхолик, посылал моему отцу выражение сочувствия, подобающее скорее по отношению к погибшим людям, чем к животным. Но в тот первый год крестьяне, заполнившие окопы, немного значили. Италия, разжиревшая за сорок лет мира, нуждалась, похоже, в хорошем, по выражению Черчилля, кровопускании.
В начале 1916-го пришли за Мавром. Перед тем как распрощаться со своим любимцем, отец его сфотографировал. Фотография головы, увеличенная до натуральных размеров, была заключена в раму и повешена на месте Мавра в теперь уже пустой конюшне. Позже ее перенесли в мансарду. Под стеклом пожелтевшей от времени фотографии вставлена военная открытка, датированная двенадцатым апреля и подписанная неким полковником Де Паоли из кавалерийского эскадрона. «Прославленный юрист! — писал он. — С глубоким сожалением сообщаю Вам о том, что Мавр пал смертью храбрых. Разорвавшаяся граната убила его, семерых солдат и старшего сержанта. Мавр был храбрым и верным животным и служил на благо Родине. Пожалуйста, примите заверения в моей самой искренней симпатии». Через три недели отец записался добровольцем в ближайшем призывном участке.