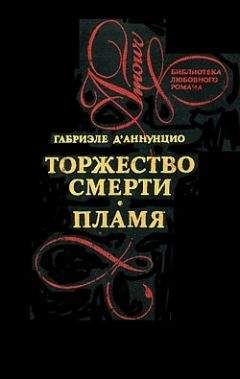Таким образом, как моя мать, так и отец росли в атмосфере вышедшего из моды иудаизма и ярого итальянского национализма и, как следствие, разделяли все предвзятые мнения, типичные для поколения уверенных в себе, богатых и уважаемых еврейских буржуа, которые ни в малейшей мере не подозревали об опасностях, ожидавших их в будущем.
Как это было принято среди молодых девушек из хороших состоятельных семей, моя мать не получила системного образования. Она умела играть на рояле, вышивать, пыталась, с незначительным успехом, рисовать, говорила по-французски и по-немецки, читала модные журналы и страстно увлекалась книгами по религиозным вопросам. Этот интерес был присущ ей как часть ее натуры. Он был привит монахинями в школе, куда ее определила моя бабушка, считая, что соседство монахинь и знакомство с их жизненной системой защитят молодую и красивую девушку, предназначенную для радостей жизни, от опасности всяких там «религиозных фобий». Это предположение оказалось справедливым. Моя мать никогда не отличалась религиозным фанатизмом. Но с тех пор как она поселилась в имении моего отца, для нее стало вполне естественным заполнять долгие часы скуки (пока она ждала его возвращения с охоты или с объезда полей) чтением житий христианских святых и мучеников, предоставленных местной церковью, и плутовских романов из жизни королевских дворов, которые мой отец приобрел еще будучи холостяком.
Взаимоотношения между моими родителями находились в течение их жизни как бы на двух разных уровнях. С того дня, когда мой отец встретил маму на университетской вечеринке, вспыхнувшая в нем любовь стала главным смыслом его жизни и продолжала им оставаться, несмотря на все жизненные перипетии. «Ни один из вас, — говорил он то ли в шутку, то ли всерьез нам с сестрой, — не стоит и ногтя мизинца вашей матери». Она же, в отличие от отца, имела о супружеской жизни совершенно иное представление — она видела в ней долг верности, но без пламенной любви. Ее поведение отличалось редкой деликатностью и вниманием по отношению к людям, однако была в матери какая-то внутренняя холодность, которую супружеская жизнь так и не смогла растопить. Эта холодность склоняла ее к поискам яростных духовных приключений, оставляя для физической жизни ту сферу социальных и материальных интересов, которая среди людей ее класса считалась наилучшей для того, чтобы служить благу респектабельных браков.
Странным образом семьи моих родителей не были знакомы прежде, хотя долгое время жили в одном городе. Семья отца происходила из Испании и поколениями жила в гетто города Ивреа. Семья матери пришла из Франции и обосновалась в маленьком городке близ Турина. Моему отцу пришлось изрядно потрудиться, чтобы получить согласие ее семьи на брак. Ее родители не видели ничего хорошего в союзе своей дочери, «красивой, деликатной и невинной» (так было написано в стихотворении, сочиненном по поводу ее помолвки), снабженной приданым в триста тысяч золотых лир, с «ни на что не годным» человеком. Таким представлялся им мой отец из-за его необъяснимого ухода в деревню в возрасте двадцати четырех лет после тщетных попыток убедить мою мать позволить ему сделать военную карьеру вместо банковской. В качестве компромисса он согласился изучать юриспруденцию и какое-то время даже стажировался у знаменитого адвоката. Однако после того, как двое его клиентов, мелких воришек, получили в результате его страстной защитительной речи суровые приговоры, он убедился, что ему следует оставить адвокатуру и отдаться своей нееврейской страсти к сельскому хозяйству.
Мой дед со стороны матери, ловкий и хитрый торговец землей и зерном, заподозрил в этом бегстве в деревню что-то неладное. Прежде чем дать свое разрешение на брак, он переоделся в потрепанную одежду, подобающую торговцу скотом, и приехал в поселок, где мой отец был мэром и самым большим землевладельцем. Он снял комнату в местной гостинице и между стаканчиком вина и расспросами о ценах на коров начал делать грязные намеки на евреев, которые сделались главами местных администраций. Ему с трудом удалось избежать побоев. Пристыженный, но обрадованный, он вернулся в Турин, убежденный в том, что мой отец хотя и был, несомненно, странным парнем, все же в состоянии как следует заботиться об общественной собственности, равно как и о своей, состоявшей из четырехсот гектаров отличной земли, богатых охотничьих угодий, обширных лугов вдоль реки Танаро и печи для изготовления кирпичей. Моя мать приняла его ухаживания без энтузиазма, но и не противилась им, счастливая выйти замуж и покончить со страхами своей семьи перед ее возможным бегством с неевреем.
Любовь моего отца к ней с годами все росла, в особенности после рождения двоих детей. Тем не менее после пышной свадебной церемонии, состоявшейся в Туринской синагоге в 1908 году, оказалось, что чувства супругов заметно отличаются от того, что было выгравировано на золотом медальоне, изготовленном к этому событию. Среди многочисленных источников трений между отцом и матерью был и категорический отказ моей матери расстаться на время медового месяца с ее маленьким фокстерьером, которого отец ненавидел, и его нежелание бросить привычку курить тосканские сигары, запах которых мать не переносила.
В теплый июльский день мои родители, усталые после долгого и лишенного каких-либо приключений свадебного путешествия, прибыли к нашему сельскому дому. Виджу правил парой вороных рысаков, запряженных в сияющее черным лаком и обитое внутри белым шелком ландо. На Виджу была длинная накидка с золотыми аксельбантами, на голове красовался цилиндр с желтыми и зелеными фазаньими перьями. Его руки в перчатках с трудом удерживали поводья лошадей, перепуганных треском фейерверка.
Селяне хлопали в ладоши, муниципальный совет велел развесить на центральной улице поселка китайские фонарики, а в окнах замка, который моя бабушка уступила муниципалитету вскоре после смерти мужа, горели факелы. Делегация местных нотаблей презентовала новобрачным адрес с добрыми пожеланиями, вышитыми на шелке и обрамленными дубом с двумя портретами, работу монахинь сиротского монастыря. В этом адресе моя мать была охарактеризована как «женщина высочайшей красоты и достоинств». Местный священник, сопровождаемый прочими представителями духовенства, один из которых стал впоследствии кардиналом, организовал факельное шествие из квартала Чабо к воротам замкового парка. Карабинеры при полном параде поддерживали порядок, муниципальный духовой оркестр играл веселую музыку, а крестьяне моего отца, составлявшие в то время большинство населения поселка, выстроились во дворе нашего дома. Одетые в праздничную одежду, с черными платками, повязанными на вспотевшие шеи, они в своих помятых воскресных пиджаках стояли в окружении жен и детей, хлопая в ладоши, изо всех сил скандируя: «Да здравствует мэр, да здравствует мадамин!» и с нетерпением ожидая золотого полусоверена, обещанного каждому главе семьи. Они определенно не могли думать о том, что через несколько лет мой отец будет призывать их идти на войну, чтобы погибнуть в бою. В тот вечер никто не думал ни о войне, ни о возможности того, что в результате еще одного кровавого конфликта моих родителей выбросят из их собственного дома, потому что они евреи.