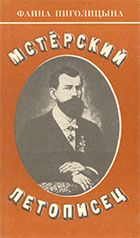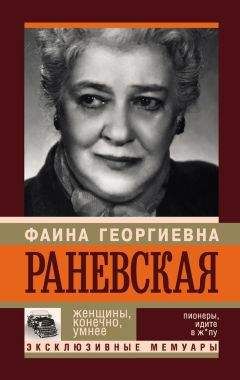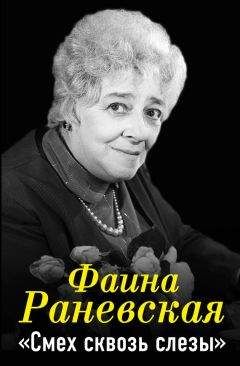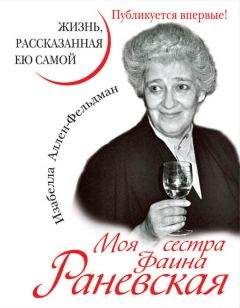Прежде Александр Кузьмич бывал дома редко. Теперь — с утра до ночи. Угрюмый, раздражительный, он хватался то за одно дело, то за другое, постоянно был чем-то недоволен и куражился над женой и ребятишками. Татьяна Ивановна сначала громко причитала целыми днями:
— Пропадем! Детей по миру пустим! Но Александр Кузьмич как-то, когда детворы дома не было, так отходил ее вожжами, что она с тех пор замолчала и только часами истово молилась богородице.
Берегли теперь каждую копейку. Дети без спросу куска хлеба не могли взять. Мать стала носить часть молока на базар.
Александру Кузьмичу в первое время хотелось запить, но, человек деятельный и гордый, он нашел в себе силы не дать раскольникам еще повод торжествовать.
Выместив свое горе на домашних, Александр Кузьмич принялся за старое ремесло. Расчистил подвал, закупил доски и принялся писать иконы. В доме снова запахло тухлыми яйцами: на яйцах иконописцы разводили краски. Работалось Александру Кузьмичу тяжело. Рука мастера потеряла с годами гибкость и твердость. В его возрасте иконный мастер имел обычно мастерскую с собственноручно выученными подмастерьями. Во Мстёре давно уже действовал иконописный конвейер: одни мастера, «личники», писали только лица; другие, «долечники», — руки, ноги, одежды и пейзажи. Каждый набивал руку на своей «доле», и в день иконная мастерская выдавала десятки и сотни икон. Такие иконы были очень дешевы и возами вывозились из Мстёры.
Соревноваться с владельцами мастерских Александру Кузьмичу и думать было нечего, а значит, заработок будет так мал, что и семью не прокормить.
Каждый мастер к тому же имел своих торговцев — сбытчиков икон, офеней. Голышеву и офеней предстояло найти, точнее — от кого-то переманить. А переманивать было нечем, да и раскольники предупредили своих коробейников:
— Уйдете к Голышеву — обратно не возьмем. Александр Кузьмич решил придумать для начала что-то необычное, завлекательное для офеней. Видел он как-то в Москве, когда еще по бурмистрским делам ездил к бывшему владельцу Мстёры, генералу Тутолмину, стеклянные иконы и решил попробовать писать образа на стекле.
Много хлопот было положено на добывание стекла и специальных красок, а иконы не пошли. Офени не брали их, боясь разбить по дороге. На ярмарках народ любовался более яркими цветами стеклянных образов, но брать тоже остерегался: «Долго ли така икона проживет?!»
Татьяна Иванована ворчала, что стеклом завалили весь дом, шагу не шагнуть, чтобы чего-нибудь не разбить.
Александр Кузьмич закрывался в своей мастерской и запрещал кому бы то ни было заглядывать в нее.
Раз, когда Ванятка проходил мимо, дверь в мастерскую оказалась открытой, и он увидел расставленные вдоль стен подсыхающие образа.
Заинтересованный, он перешагнул порог, тихо вошел в мастерскую и замер за спиной отца, глядя, как рождаются под его кистью лики, одежды, церковные маковки. — Что? Занятно? — усмехнулся Александр Кузьмич, заметив сына.
Ваня думал, что отец накажет его за нарушение запрета, а тот даже не прогнал, а усадил сына рядом.
Ваня смотрел, как отец кладет на загрунтованную доску лист бумаги с ликом, изображенным множеством проколотых иголкой дырочек.
Потом отец притянул поближе робеющего сына, дал ему в руки мешочек с толченым углем и велел гладить рисунок мешочком, потряхивая его.
Ваня не понимал, зачем это нужно, но догадывался, что от того, как он выполнит поручение отца, будет зависеть дальнейшее к нему отцово доверие. Высунув от усердия язык, он изо всех сил тряс мешочком.
— Ну, довольно, довольно, — остановил его отец. — Язык-от спрячь, а то вороны склюют.
Ваня испуганно убрал язык, отдал отцу мешочек с углем и, взглянув на свои почерневшие руки, вытер их об штаны, за что немедленно получил от отца подзатыльник.
— Вымыть сперва надо руки-то, а потом о штаны отирать, вот мать теперь тебе даст…
От подзатыльника Ваня едва устоял на ногах, надул губы, но не заплакал. Пытливость была сильнее обиды и боли. Мальчику не терпелось узнать, зачем он тряс этим мешочком.
Отец снял с доски приколотый лист, и Ваня увидел на светлой доске четкий черный контур божьего лика.
Потом отец взял иглу, вставленную в деревянную ручку, и провел ею с нажимом» по всем линиям рисунка, образовав канавку.
— Подрастешь, будешь делать, как я, а пока… Александр Кузьмич положил сыну на колени иконную доску, а на нее лист бумаги. Дал мальчугану карандаш и сказал:
— Рисуй.
С тех пор Ваня получил право приходить к отцу в мастерскую в любое время. А немного позже Александр Кузьмич принялся учить его рисовать карандашом, растирать краски и правильно держать кисть.
Как бы хорошо было сделать сына подмастерьем, да мал еще. Вспомнились умершие сыновья. Однако горевать было некогда.
Офени не хотели брать стеклянные образа, но охотно взяли привезенные Александром Кузьмичом из Москвы губную помаду, белила и курительные свечи.
«А что, если открыть косметическое заведение? — подумывал Александр Кузьмич. — Дело должно пойти, соперников во Мстёре по этой части нет. Разве только перекупщик Корнилов».
Опять отправился Голышев-старший в Москву, прошел там краткий курс обучения новому делу, договорился о сырье и вернулся домой с книгой-руководством «Как организовать косметическое~заведение».
Снова немало сбережений пошло на приобретение сырья, разной посуды, перегонных аппаратов и упаковки.
Александр Кузьмич усадил за работу и жену, и старших дочерей. Все что-то толкли, мешали, процеживали и перегоняли.
Ваню к химическому производству не допускали. Он был мальчиком на побегушках, но имел достаточно времени, чтобы вникать в технологию производства мыла, духов или помады. Дело было прелюбопытное. Мальчику хотелось самому смешивать вещества, взбалтывать и взбивать. Иногда это ему разрешали.
Косметическое заведение оказалось очень хлопотным, малодоходным, из-за того что сырье приходилось привозить из Москвы, и вскоре прекратило свое существование. Но любовь мальчика к химии останется на всю жизнь.
Ездя в Москву за сырьем для косметического заведения, Александр Кузьмич натолкнулся на новое дело — снимание портретов на металлические пластины — дагерротип. Новинка поразила его рвущееся ко всему необычному воображение. Александр Кузьмич принялся через друзей искать мастера, который бы обучил его фотографическому делу. Учитель нашелся, внушил престарелому ученику, что дело — нехитрое, постигнуть можно, только деньги за обучение надо заплатить вперед. Голышев отдал последние. Мастер сказал, что денег мало, но согласился поучить на те, что есть.