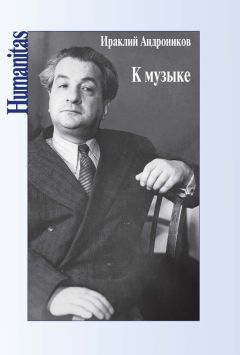Первый в моей семье, кого назвали именем Руффо, был охотничий пес; вторым был певец, и это — я; третий — доктор экономических наук, и это — мой сын; четвертый... — известен одному богу. Мой отец смолоду любил охоту и в праздничные дни отправлялся с компанией приятелей охотиться в заповедник вблизи Торре дель Лаго. Однажды ему подарили двух великолепных щенков, которым компания придумала имена. Один был назван Пелличионе; другой — Руффо. Мой отец уступил первого приятелю, второго же стал растить сам. Обе со-/ баки росли и развивались отлично, особенно Руффо, отличавшийся исключительными качествами. Он был очень красив, весь черный, лишь кое-где слегка забрызганный белыми пятнами; у него были длиннейшие уши и глаза почти по-человечески выразительные. Отец привязался к нему как к близкому другу.
К несчастью, бедный Руффо стал жертвой рокового промаха одного из охотников. Однажды во время охоты он был ранен неудачным выстрелом в голову и после недели страданий умер. Эта потеря несказанно огорчила отца. Он никак не мог успокоиться.
Моя мать была в то время беременна мною, и, когда я родился, отец захотел назвать меня именем своего верного погибшего пса. Несмотря на горячий протест матери, находившей это решение нелепым и обидным, воля отца победила. Я был назван Руффо и только второе имя мое было Кафиеро. Но мама с самого рождения звала меня Кафиеро, так что до известного возраста я был уверен, что это и есть мое имя. Когда я вырос и вступил в жизнь, меня стали звать Руффо Титта.
Имя собаки принесло мне удачу. Но позже, когда я начал приобретать некоторую известность, мне показалось, что перестановка имени и фамилии звучит лучше. Поставив имя вместо фамилии, я стал и остался навсегда не Руффо Титта, а Титта Руффо. Впоследствии, когда родился мой сын, я решил — с согласия жены — назвать его так же. Надеюсь, что и он захочет продолжать эту традицию и даст мне таким образом радость — если потомство не прекратится,— перейти в бессмертие.
Мой отец работал в Пизе в качестве управляющего мастерской, принадлежавшей литейному заводу немецкого торгового дома Ведерлунгер на пиацца Сант-Антонио. Однако он все время стремился покинуть Пизу и переселиться в город, больший и по размерам и по значению. Он мечтал открыть там собственную мастерскую, чтобы полностью осуществить свои намерения и показать, на что он способен. Потому что — утверждаю это с полной ответственностью — он был, действительно, настолько талантливым, особенно в работах по ковке железа, что некоторые его изделия как в Италии, так и в других странах считаются произведениями, имеющими большую художественную ценность. И если со временем мне удалось преуспеть в этом благородном искусстве и я сам сделал кое-какие красивые вещи, то этим я! всецело обязан урокам отца и его примеру.
О моей жизни в Пизе или, другими словами, о моем раннем детстве я сохранил мало воспоминаний. Впрочем, вот случай, который, как мне кажется, стоит упоминания. Он относится к тому времени, когда мне было около шести лет и связан с девчуркой по имени Джеммина.
Мы жили на людной улице городского предместья под названием виа Каррайя, во втором этаже убогого, мрачного дома, называемого в нашем квартале «Домина». Голоса, раздававшиеся на лестницах этого дома, звучали так громко, что казались преувеличенными посредством усилителя. При той впечатлительности, которой отличалась моя детская натура, мне всегда казалось в этом нечто дьявольское, чудился как бы голос знаменитого «буки», грозы шалунов. Однажды, когда я сидел под большим столом, а мама выглядывала в окно, мне без всякого к тому повода вздумалось хныкать, чем я и занялся с самым нудным упорством. Мама время от времени приказывала мне замолчать, но я только усиливал хныканье, до тех пор пока мама, проявлявшая по отношению ко мне большое терпение не взяла меня на руки и не посадила с собой у окна. Увидев на улице перед лавкой торговки фруктами корзины, наполненные вишнями — первыми в этом сезоне, и зная мое пристрастие к этим плодам, мама сказала: «Погляди, какие прекрасные вишни! Если будешь умницей и перестанешь плакать, я куплю тебе их много-много». Тотчас же, точно голос мой выключился при помощи электрической кнопки, я перестал ныть. И в то время, как я жадно всматривался в корзины, покрасневшие от обилия находившихся в них вишен, я увидел Джеммину.
Это была красивая светловолосая девчурка, к которой я чувствовал большую симпатию, лучшая подруга моих детских игр. На мне в этот день был в первый раз надет сшитый мамой голубой передничек с белыми полосками и двумя прилаженными спереди большими карманами. Страстно желая показаться Джеммине в новом наряде, я попросил маму отпустить меня вниз поиграть с девочкой. Получив разрешение, я стремглав сбежал по лестнице и в мгновение ока очутился на улице. Но, к моему величайшему огорчению, Джеммины там уже не оказалось. Тогда я перешел на другую сторону улицы и остановился перед корзинами с вишнями. В меня точно вселился злой бес. Торговка фруктами находилась в лавке и не могла меня видеть. Я поднял глаза к окну, из которого только что выглядывала мама и, поскольку жалюзи были закрыты, я вообразил, что она в глубине комнаты занята по хозяйству. |
В один миг я наполнил вишнями один карман в переднике, затем другой, после чего снова перешел на другую сторону улицы и прокрался в дом. Я начал угощаться, спрятавшись за дверью, затем, продолжая есть, стал не торопясь подниматься по лестнице. Вдруг какой-то мужчина с последнего этажа заорал грубым, раскатистым голосом: «Лаудомиааа!». Я содрогнулся от ужаса. Мне показалось, что я слышу самого Людоеда, который хочет меня догнать и поведать всем о моем преступлении. Совесть уже начала мучить меня. Я перестал есть вишни и поспешил вернуться домой. Дверь была еще открыта. Я вбежал на цыпочках, думая спрятаться в маминой комнате. Едва я успел притаиться за бельевым шкафом, как вдруг передо мной выросла мама. Глаза ее метали молнии — она все видела из-за спущенных жалюзи. Голосом дрожащим и прерывающимся она спросила, что я прячу в карманах. Я почувствовал, что погиб. Не зная, что сказать, чтобы как-нибудь оправдаться, я сразу же придумал, что торговка подарила мне вишни. Мама, еще более рассерженная моей ложью, перебила меня и попыталась вытащить мои руки из карманов. Но это ей не удалось, потому, что я с такой силой зажал в кулаках остатки вишен, что превратил их в кашу. На переднике выступили красные пятна, и тяжелые капли, точно кровью, окрасили пол. Тогда мама схватила меня за руку и стащила по лестнице, как игрушку. Я со второго этажа выкатился на улицу, почти не коснувшись земли. Получив от торговки фруктами, у которой она, волнуясь, спросила, дарила ли она мне вишни, отрицательный ответ, мама, глядя мне в глаза, преподала мне такой урок, так меня наказала, что мне никогда в жизни этого не забыть, даже если бы я прожил тысячу лет. Вспоминаю, что через несколько дней после этого случая у меня все еще болели наиболее нежные части моего тела и руки мои распухли и онемели. Мне кажется — это был первый и последний раз, что моя мать меня отколотила.