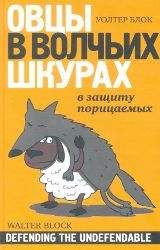И разве не слышали наши "молодые поэты", что высокое и смешное, самое высокое и самое смешное, часто бывают переплетены так, что не разобрать, где начинается одно и кончается другое? Приведу для наглядности пример из жизни того же «чудака», «ангела», "комического персонажа" — из жизни поэта Мандельштама.
В «Tristia» (книге Мандельштама) есть крымские стихи: кто «Tristia» читал, тот уж, наверное, их помнит: одно из лучших стихотворений Мандельштама — одно из лучших русских стихотворений:
…Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.
…Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла —
Не отрываясь, целовала,
А строгою в Москве была.
Нам остается только имя,
Блаженный звук, короткий срок,
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.
Так вот — это написано в Крыму, написано до беспамятства влюбленным поэтом. Но поклонники Мандельштама, вообразив по этим данным (Крым, море, любовь, поэзия) картину, достойную кисти Айвазовского (есть, кстати, у Айвазовского такая картина, и прескверная: "Пушкин прощается с морем"), — поклонники эти несколько ошибутся.
Мандельштам жил в Коктебеле. И так как он не платил за пансион и, несмотря на требования хозяев съехать или уплатить, — выезжать тоже не желал, то к нему применялась особого рода пытка, возможная только в этом "живописном уголке Крыма", — ему не давали воды. Вода в Коктебель привозилась издалека и продавалась бочками. — Ни реки, ни колодца не было — и Мандельштам хитростью и угрозами с трудом добивался от сурового хозяина или мегеры-служанки, чтобы ему дали графин воды: получив его, он выпивал, конечно, все сразу и опять начиналась мука… Кормили его объедками. Когда на воскресенье в Коктебель приезжали гости, Мандельштама выселяли из его комнаты — он ночевал в чулане. Простудившись однажды на такой ночевке, он схватил ужасный флюс и ходил весь обвязанный, вымазанный йодом, сопровождаемый улюлюканьем местных мальчишек и улыбками остального населения "живописного уголка". Особенно, кстати, потешалась над ним «она», та, которой он предлагал «принять» в залог вечной любви "ладонями моими пересыпаемый песок". Она (очень хорошенькая, немного вульгарная брюнетка, по профессии женщина-врач) вряд ли была расположена принимать подарки подобного рода: в Коктебель ее привез ее содержатель, армянский купец, жирный, масляный, черномазый. Привез и был очень доволен: наконец-то нашлось место, где ее было не к кому, кроме Мандельштама, ревновать…
С флюсом, обиженный, некормленный, Мандельштам выходил из дому, стараясь не попасться лишний раз на глаза хозяину или злой служанке.
Всклокоченный, в сандалиях на босу ногу, он шел на берег, встречные мальчишки фыркали ему в лицо и делали из полы "свиное ухо". Он шел к ларьку, где старушка-еврейка торговала спичками, папиросами, булками, молоком… Эта старушка, единственное существо во всем Коктебеле, относилась к нему по-человечески (может быть, он напоминал ей собственного внука, какого-нибудь Янкеля или Осипа), по доброте сердечной, — оказывала Мандельштаму «кредит»: разрешала брать каждое утро булочку и стакан молока "на книжку". Она знала, конечно, что ни копейки не получит, — но надо же поддержать молодого человека — такой симпатичный и, должно быть, больной: на прошлой неделе все кашлял, а теперь вот — флюс. Иногда Мандельштам получал от нее и пачку папирос второго сорта, спичек, почтовую марку. Если же он, потеряв чувствительность, рассеянно тянулся к чему-нибудь более ценному — коробке печенья или плитке шоколада, — добрая старушка, вежливо отстранив его руку, говорила грустно, но твердо:
— Извиняюсь, господин Мандельштам, это вам не по средствам.
И он, сразу оскорбившись, покраснев, дергал плечами, поворачивался и быстро уходил. Старушка грустно смотрела ему вслед, — может быть, ее внук был такой же гордый и такой же бедный, — видит Бог, она не хотела обидеть молодого человека…
Мандельштам шел по берегу, выжженному солнцем и выметенному постоянным унылым коктебельским ветром. Недовольный, голодный, гордый, смешной, безнадежно влюбленный в женщину-врача, подругу армянина, которая сидит теперь на своей веранде в розовом прелестном капоте и пьет кофе — вкусный, жирный кофе, и ест горячие домашние булки, сколько угодно булок… Он шел, гордо откинув голову, большую некрасивую голову на тонкой шее, бормоча под нос — сочиняя на ходу стихи, упоительные «ангельские» стихи:
Где обрывается Россия
Над морем черным и чужим…
Коктебельские мальчишки кричали ему вслед, когда он проходил мимо:
"Господин — часы обронил". И когда он гневно оборачивался, убегали, высунув "свиное ухо"…
2
В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем…
1920 год. Снег. Холод. Фонари не горят. Снова мы идем по Тучковой набережной — мимо дома, где когда-то была гостеприимная редакция "Гиперборея",
Мимо зданий, где мы когда-то танцевали, пили вино.
Мандельштам только что приехал в советский Петербург, и я веду его, бездомного и дрожащего от холода, — к себе ночевать. Он два года пропадал — был в Крыму, оттуда выслали в Грузию, в Грузии едва не повесили. Потом какое-то невероятное, возможное только с Мандельштамом путешествие через всю Россию, — и в одно прекрасное утро звонок у черного хода моей квартиры.
— "Кто там?" — Из-за двери пыхтение, какой-то топот, шум, точно отряхивается выплывшая из воды собака…
— Кто там?
— Это я.
— Кто я?
— Я… Мандельштам…
Конечно, он приехал в летнем пальто (с какими-то шелковыми отворотами, особенно жалкими на пятнадцатиградусном морозе). Конечно, без копейки в кармане, простуженный, чихающий, кашляющий, не знающий, что ему делать.
Первой его заботой, после того, как он немного осмотрелся и отошел, было — достать себе "вид на (жительство)".
— Да успеешь завтра.
— Нет, нет. Иначе я буду беспокоиться, не спать. Пойдем в Совдеп, или как его там.
— Но ведь надо тебе сначала достать какое-нибудь удостоверение личности.
— У меня есть. Вот.
И он вытаскивает из кармана смятую и разодранную бумагу. — "Вот:
"Командующий вооруженными силами на юге России" — значится в заголовке. — Удостоверение… Дано сие Мандельштаму Осипу Эмилиевичу… Право жительства в укрепленном районе… Генерал X… Капитан Y…"
— И с этим ты хотел идти в Совдеп!.. Детская растерянная улыбка.
— А что? Разве бумажечка не годится?
……………………………………………………………..