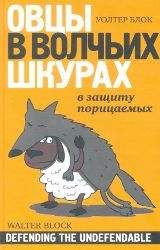— Я не знал до сих пор вашей фамилии, псевдоним только.
— А теперь, когда фамилию мою знаете, еще чудней обо мне будете думать?
— Я в первый раз ее слышу.
— Будто? — протянул он недоверчиво. — Наша фамилия знаменитая.
Особенно в Сибири. Дед мой девять человек топором уложил.
x x x
— Я с вами объясниться хочу. Надо мне с вами объясниться. А почему — держу пари — не догадаетесь…
Восковая свечка оплывает в горлышке пивной бутылки. В комнате полутемно. Железная печка докрасна натоплена. В углу в свете маленькой лампадки поблескивают оклады икон.
— А почему — держу пари — не догадаетесь…
Я через неделю после разговора с Тиняковым-Одиноким получил от него записку. "Прошу приехать по неотложному делу". «Неотложному» было жирно подчеркнуто. Какое такое дело? Не денег ли он собирается просить, вообразив, что я богат?
Я поехал. Уж одно — посмотреть, как живет этот знаток Бодлера, член союза Михаила Архангела и "внук своего деда", — было любопытно. А может быть, он и разговорится.
Оказалось, он и позвал меня, чтобы поговорить.
— Надо объясниться. А почему…
Почему, в самом деле?
Ветер с Охты (Одинокий живет на глухой Калашниковской набережной, едва я разыскал его мрачный деревянный дом), ветер ударяет в стекла так, что они дрожат. Свеча, потрескивая, оплывает. На камчатной пестрой скатерти — водка, хлеб, закуска…
Одинокий отхлебывает из чайного стакана и морщится.
— Угощайтесь, прошу. Вот и кисленькое, для вас специально, если не хотите казенной. Да, так почему я хочу с вами объясниться?..
— Думаете — оправдываться хочу, обелиться перед вами, чтобы дальше не пошло. Мол — союзник Тиняков и еще скрывает. Подозрительный человек.
Остерегаться надо такого. Из литературы исключить. Остракизму подвергнуть.
А? Так?
— Нет-с, не так! Мне плевать! И на остракизм, и на литературу. На все.
Хочу скрываю — хочу не скрываю. Сегодня в архангелах, а завтра царя убью.
Захотелось — пошел и убил. А что о мне думают — плевать. Это я о себе написал:
…Любо мне, плевку-плевочку,
По канавке проплывать…
Скользким боком прижиматься…
Он щурится, морщась, проглатывает водку и говорит важно:
— А объяснюсь я с вами потому, что вы друг Валерия Яковлевича Брюсова, следовательно, и мой.
— Какой друг? Я даже не знаком с Брюсовым.
Но Одинокий не слушает.
— Друг Брюсова — мой друг. В каком смысле надо понимать друг? — выговаривает он со строгостью. — В том смысле, в каком тварь, солнцем питаемая, — друг ему. Брюсов — солнце, мы твари…
Преподобный Валерий,
Моли Бога о нас…
затягивает он на церковный лад. Понимаете теперь, зачем я позвал вас?
Я хочу сказать, что не понимаю — но к чему говорить. Он пьян, страшно пьян, как тогда на «Поплавке». Он лезет целоваться, рот его кривится на сторону, глаза дикие.
— Что ж ты не пьешь? — переходит он на ты. — Пей, брат, водка хорошая — царская. Царской водкой зовут самую страшную кислоту, которая прожигает железо, камень, все. В алмазных банках ее хранят — только алмаза не берет. И это вот тоже царская — все зальет, все сожжет…
Он задумывается.
— Только тоски человеческой взять не может. Стыд — без остатка, совесть — точно и нет никакой, честь — а ты выпей еще стаканчик и пошлешь эту самую честь к черту, как шлюху на Лиговке. А вот тоска — как алмаз.
Ничего ей не делается. Стоит в груди и не тает…
— Хотите стихи прочту, — вдруг спрашивает он. — Настоящие стихи, не те, что читаю буржуям…
О Тукультипалишера,
О царь царей, о свет морей, —
передразнивает он сам себя… Нет, не это. Те, что для себя пишу:
Я до конца презираю
Истину, совесть и честь,
Лишь одного я желаю —
Бражничать блудно да есть.
Только бы льнули девчонки,
К черту пославшие стыд,
Только б водились деньжонки
Да не слабел аппетит…
…А тут, — берет он меня за рукав, — тут самое главное. Иконостас Одинокого. Поближе подойдите. Вот…
При свете огарка иконы, которыми увешан угол, видны ясней. Потемневшие старинные ризы, тусклые венчики со стертой позолотой… Первую минуту я не понимаю, в чем дело…
Одинокий подносит огарок еще ближе: в середине под темным окладом выступают черты врубелевского Брюсова, рядом Бодлер, Ницше, какая-то дама…
Вперемежку с ними настоящие иконы.
Отвращение, которое, должно быть, отражается на моем лице, доставляет хозяину живейшее удовольствие. Хитренькая улыбочка расплывается шире, делается медовой.
— Дамочка с муфтой, — поясняет он, — Блаватская, теософка. А старичок налево — рядом с преподобным Серафимом Саровским — дед мой, блаженной памяти Аристарх Тиняков. Тот самый-с… На каторге снят…
x x x
Еще до войны — Одинокий пропал куда-то: оказалось, что он сотрудничает одновременно под разными псевдонимами — в «Земщине» и одной очень либеральной и уважаемой газете. Это раскрылось… Только в 1920 году он снова появился в Петербурге. Вид он имел грязный, оборванный, небритый.
Никого не интересовало, откуда он взялся и чем занимается.
Однажды он зашел в Дом искусства к своему старому знакомому писателю Г.
Поговорили о том, о сем и перешли на политику. Одинокий спросил у Г., что он думает о большевиках. Тот высказал, не стесняясь, что думал.
— А, вот как, — сказал Одинокий. — Ты, значит, противник рабоче-крестьянской власти? Не ожидал! Хотя мы и приятели, а должен произвести у тебя обыск…
И вытащил из кармана мандат какой-то из провинциальных Ч. К.