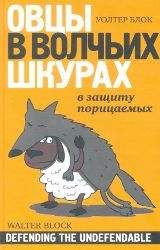Фофанов боится одиночества. Но, собственно, бояться ему нечего. В одиночестве ему редко приходится оставаться. Шесть человек детей, жена, он сам, не считая кота, собаки, бесчисленных канареек, — все ютится в двух маленьких комнатах. Кроме этого, так сказать, коренного населения, в квартире Фофанова еще постоянно толкутся гости.
Гости самые разные. Околоточный из соседнего участка, хозяин пивной на углу напротив, какой-то сухонький старичок, бывший князь и вице-губернатор, отдаленный от этого своего потерянного величия несколькими годами арестантских рот, толстая булочница, поклонница поэзии, снабжающая Фофанова хлебом, не требуя по счетам, какие-то студенты, какие-то просто оборванцы…
Приходят и друзья писатели, поэты старой школы. Из Павловска наезжает аккуратный тихий старичок — Леонид Афанасьев, полная противоположность Фофанову во всем: не пьет, не курит, от непечатных слов болезненно ежится.
Только в одном они сходятся — в ненависти священной к «Дантесам». У Афанасьева грустный, умный взгляд, вежливейшие манеры, совершенно лысый его череп тщательно закрашен черной… китайской тушью.
Приходит какой-то "Петр Силыч", фамилию не помню, тоже поэтический друг "былых славных времен". "Огромный талант, — говорит о нем Фофанов. — А чтец какой — вы послушайте". Чтец, действительно, редкий. Читает он громовым голосом, с жестами, выкатывая глаза и тряся львиной гривой. При этом страшно шепеляв. "Она, как бабочка, царила над толпой", — есть у Фофанова такая строчка. В передаче замечательного чтеца получается явственное:
Она, как бабушка, солила над толпой…
Ходят еще друзья сына-поэта, футуристы третьего разряда. В ссорах о новой и старой школе иногда доходят до драки. Но без злобы — страшно быстро успокаиваются, мир легко восстанавливается. Дело в том, что футуристы эти, хоть и ниспровергают "все существующее" — но, от самого своего литературного рождения, чувствуют себя ущемленными, обиженными «несправедливо», — кем? да все теми же Дантесами, пробочниками, — теми, кто учился в университетах, кто распоряжается издательствами и журналами, куда их не пускают.
— Тише, — вдруг говорит Фофанов, перебив какой-нибудь спор или чужое чтение. — Тише. Я, — а надо слышать, как гордо порой он произносит это «я». — Я буду читать:
Ты — небо ясное в светилах,
Я море темное. Взгляни:
Как мертвеца в сырых могилах,
Я хороню твои огни.
Читает он прекрасно, сдержанно, отчетливо, дрожащим, но звучным голосом. От стихов Фофанова, в его чтении, даже от неудачных, — всегда «что-то» распространяется. Какое-то величие, неосуществленное, невоплотившееся и все-таки веющее где-то между строк. Читает он долго, забывшись, из забытья его выводит голос сына-футуриста.
— Папаша, ей-Богу же, вы мраморная муха.
Фофанов обрывает неоконченное стихотворение и смотрит на сына с изумлением, точно не понимая, откуда тот взялся. Потом устало машет рукой и, ничего не сказав, устало тянется к бутылке…
Фофанов писал:
Я и сам хочу в могилу,
И борьбе своей не рад,
И бреду я через силу,
Кое-как и невпопад.
Тема эта бесконечно варьируется в его стихах — «устал», "не могу больше", "хочу в могилу". И в разговорах он часто повторял то же — устал, не могу.
Перед самой смертью в нем со странной силой проснулось желание жить, страшное сопротивление перед этой, уже раскрытой для него могилой. "Не хочу, не хочу, не хочу умирать", — повторял он непрерывно, точно заклинание. С этим "не хочу" он и умер. В агонии ему мерещился Брюсов с когтями и хвостом, он рвался с постели, чтобы вступить с ним в схватку. Трое человек едва его удерживали. Перед смертью в нем проснулась и страшная физическая сила: он рвал в клочья толстые полотняные простыни, согнул угол железной кровати.
Хоронили Фофанова в мае 1911 года. За гробом шла разношерстная, не очень большая толпа. Шли несколько литераторов из мелких, шли гатчинские кумушки, шел приятель околоточный и приятель владелец пивной. Но многие плакали. В лиловом платке, очень сильно набеленная и нарумяненная, шла за гробом его некрасивая, психически больная жена. Та самая "жена моя, Лидия", которую он обожал всю жизнь, которая в значительной степени ему жизнь отравила, та самая, которой посвящена ранняя книга Фофанова — лучшая его книга — называющаяся… "Иллюзии".
Когда гроб опустили в могилу, сын Фофанова, поэт-футурист, живой портрет отца, — вышел, чтобы сказать надгробное слово. Он помолчал, провел по лбу рукой, откинул выше голову, обвел всех мутными голубыми глазами и рассудительным тоном сказал:
"Наш Фофан в землю вкопан…"
И заплакал. Его подхватили под руки и увели. Он был сильно пьян и, когда его увозили, отбивался и выкрикивал что-то о мраморной мухе…
Майской ночью я возвращался откуда-то к себе на Петербургскую сторону.
Мост был как раз разведен. «Перевоз» — пароходик "Финского пароходства", возивший с одного берега на другой за две копейки конец, тоже, как назло, только что отвалил. Значит, ждать полчаса. Или идти в обход через Троицкий?
Нет, ждать скучно, а в обход — далеко. Проезжавший мимо «Ванька» — видя мою беспомощность, запросил рубль двадцать до Александровского проспекта — цену несуразную. На предложенные шесть гривен он презрительно хлестнул лошадь, и я снова остался один перед разведенным мостом, "в сиянии и безмолвьи белой ночи". Белые ночи, конечно, — хороши, и эта была хороша особенно, — но я посмотрел вокруг на Адмиралтейство, Неву и мутно-розовое небо — почти с отвращением. Пойду в обход, — решил я. Может быть, встречу извозчика. И зачем я не дал этому разбойнику рубль — был бы уже дома…
Но идти в обход не пришлось. Пройдя несколько шагов, я увидел свет, услышал голоса и звон стаканов. «Поплавок» — излюбленное место мечтательных пьяниц — был еще открыт. Для рубля, чуть не отданного жадному Ваньке, нашлось употребление более целесообразное.
…Народу было немного, человек десять-двенадцать, но по их оловянным взглядам, покрасневшим лицам и съехавшим на сторону галстукам было видно, что они — публика солидная, сидят здесь долго, выпили много и еще выпьют.
Человек шесть сидели компанией в углу. Оттуда слышался дурацкий смех и обрывки нецензурных анекдотов. Остальные, поодиночке, мрачно, — тем мрачнее, чем больше пивных бутылок стояло под столом опорожненными. Как известно, опьянение пивом — торжественное и унылое. "Bi re gaie"["Веселое пиво" (фр.)] не бывает — оно всегда "triste"[Печальное (фр.)].
Лакей, похожий на бабу, хлопнув только что меня не по носу грязной салфеткой, спросил, чего я желаю. Я «пожелал» нарзану и ветчины, на его изумление. Вернувшись из буфета, он принес мне кусок семги, буркнув, что "говядина вся вышла". И мне волей-неволей пришлось оставить оригинальничанье и спросить, как и все, пива: семга с нарзаном — выходило как-то странно…