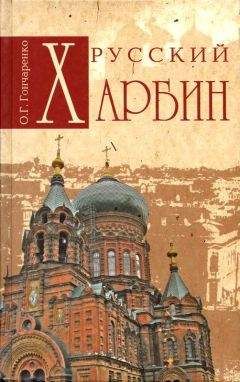Нельзя передать словами краску, запах, воздух в такие минуты ожидания. Уже потому нельзя, что дни эти особенно тихи, молчаливы, никаких слов никто не говорит, да и зачем слова? Надо ждать и слушать; надо угадать, захватить мгновение... не переворота, а то последнее мгновение, когда можно сказать «пора»: когда можно встать действенно, за «тех» — против «этих».
Целые коллективы, по вывеске большевистские, в неусыпном напряжении ждали такой минуты. (Меня поймут, мне простят, конечно, мою бездоказательность и неопределенность: я пишу это в 20-м году, во время длящегося царства большевиков). Красноармейцы, посылаемые на фронт, были проще и разговорчивее: «мы до первого кордона. А там сейчас — на ту сторону». Помню их весело и глупо улыбающиеся лица.
События на Красной Горке (почти у самого Кронштадта) — неизвестны в подробностях; но по всем вероятиям, это была ошибка, обман момента; слишком измученные ожиданием люди сказали себе «пора!» — а было вовсе не пора. Да настоящего момента для внутреннего восстания тогда и совсем не было (как не было его и после, осенью, во время наступления Юденича). Не было, видим мы теперь, единой воли у идущих, не было ее еще ни разу... Будет ли когда-нибудь?
Майская эпопея скатилась, как волна, оставив после себя полосы опустошения; нас только сдавили, задушили новыми распоряжениями и декретами, новыми запрещениями и ограничениями, — новые замки повесили на двери тюремные. Да цены сразу удвоились, так что волей-неволей приходилось думать о последней рубашке — когда, сегодня или завтра, снимать ее, чтоб послать на рынок.
Но думалось и об этом как-то тупо. Не уныние, а именно тупость начинала все больше овладевать всеми. Собственно наша внешняя жизнь изменялась так медленно и незаметно, что на первый взгляд, вот тогда, весной 19 года, все было как бы то же: та же квартира, в кухне та же старенькая няня моя, та же преданная нам служанка, деревенская девушка, с отвращением и покорностью глядящая на «этих коммунистов». Правда, пустели полки с книгами, унесли пианино, постепенно срывались занавесы с окон и дверей, а в кухне бедная моя едва живая старушка тщетно суетилась над полупустыми горшками и бранилась с таинственными личностями, на ухо обещающими картофель по сто рублей фунт. Кухня была у нас самое оживленное место в квартире. Кого-кого там не приходилось мне видеть! Кухонные митинги порою давали нам очень живую информацию.
Все пустеющая рабочая комната, балкон, с которого, поверх зеленых шапок Таврического сада, можно видеть главы страшного Смольного, бледнозолотые в белую майскую ночь, — о, какое странное томление, какая — словно предсмертная — тоска.
Тетрадей моих уже давно не было. Давно уже они покоились в могиле. Но вот тогда-то, в начале июня, я и нашла черную книжку, где стала делать не частые, краткие отметки.
Я их печатаю здесь, как они есть, в редких случаях прибавляя несколько поясняющих слов. Я не называю почти ни одного имени — причины понятны, о них уже сказано выше.
О Синей книге
Эта книга — первая половина моего Дневника, «Современной Записи», которая велась в Петербурге в годы войны и революции. Часть, здесь напечатанная (Авг. 14 г. — Ноябрь 17), уже в начале 18 г. не находилась в СПБ-ге, и затем в течение 8-9 лет считалась погибшей. Так, как и погибла вторая половина, — годы 18 и 19, — другим лицом и в другом направлении тоже увезенная из Петербурга.
Самый конец «Записи», последние месяцы 19 года, — (отрывочные заметки на блокноте) — оставался при мне и отправился со мною, в моем кармане, заграницу, когда мы туда бежали. Эти заметки вошли в книгу «Царство Антихриста», изданную по-русски, по-немецки и по-французски в 21 г.
В предисловии к заметкам я упоминаю о гибели двух первых частей Дневника. Шли годы; сомневаться в этой гибели не приходилось. Можно себе представить, как нас поразило неожиданное возвращение одной из частей «Записи» — первой. Но, надо сказать, еще более поразило меня содержание рукописи. Читать собственный отчет о событиях (и каких!) собственный, но десять лет не виденный — это не часто доводится. И хорошо, пожалуй, что не часто. «Если ничего не забывать, так и жить было бы нельзя», сказал мне друг, в виде утешения, застав меня за первым перечитываньем этого длинного, скучного и... страшного отчета. Да, забвенье нам послано как милосердие. Но все ли мы, всегда ли, имеем право стремиться к нему и пользоваться им? А что, если зачеркивая, изменяя, посредством забвенья, прошлое, отвертываясь от него и от себя в нем — мы лишаемся и своего будущего?
Вопрос о печатании этой потерянной и возвращенной рукописи долго оставался для меня вопросом. Не рано ли? Давность только десятилетняя... Но это, как раз, говорило в пользу напечатания Дневника. Ведь он — только запись одного из тысячи наблюдателей прошлого. Пусть запись добросовестная, пусть наблюдательный пункт выгоден, — неточности, неверности, фактические ошибки неизбежны. Через 50 лет их некому было бы поправить, тогда как теперь, когда живы еще многие свидетели тех же событий, — даже участники, — они всегда могут, указанием на то или другое искажение действительности, содействовать восстановлению ее подлинного образа.
Однако, именно «живые люди» и усложняли вопрос. Печатать Дневник имело смысл лишь в том виде, в каком он был написан, без малейших современных поправок (даже стиля), устранив только все чисто-личное (его было немного) и вычеркнув некоторые имена. Но вычеркнуть другие все (тогда уж и мое) — значило бы зачеркнуть Дневник. Между тем я знаю: большинство людей не любит, боится лишнего взгляда на прошлое, особенно на себя в нем.
А вдруг увидишь там что-нибудь по новому, вдруг придется осознать свою ошибку? Нет, лучше — под «крыло забвенья...» Это очень человеческое чувство, почти никто от него не свободен, — ни я, конечно. Мне тоже тяжело наше прошлое, когда оно слишком живо вспомнится, слишком близко подступит. В данном, частном, случае — и для меня Дневник мой не всегда приятное зеркало: приходится, ведь, отвечать не за одну главную внутреннюю линию (за нее я без труда отвечаю), но также и за ребяческие наивности, скорые суды, «самодельные» политические рассуждения и т.д. Да еще сознавать, что если не было каких-нибудь ошибок серьезных, фатальных, то лишь потому, может быть, что и «действий» не было...
Но, побеждая свою боязнь прошлого, не считаясь с ней в себе, имею ли я право считаться с ней в других? Как я смею решать, что другие, даже в этом маленьком случае, не найдут в себе силы бросить взгляд на свое прошлое, сказать ему новое «да» или новое «нет»?
Я и не решаю этого. То есть, решаю, печатая Дневник,