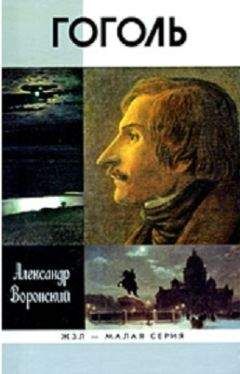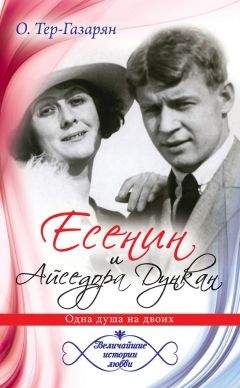Ознакомительная версия.
Такие чистенькие мальчики – жильцы тихих городов: Калуги, Орла, Рязани, Симбирска, Тамбова. Там видишь их приказчиками в торговых рядах, подмастерьями столяров, танцорами и певцами в трактирных хорах, а в самой лучшей позиции – детьми небогатых купцов, сторонников «древнего благочестия».
Позднее, когда я читал его размашистые, яркие, удивительно сердечные стихи, не верилось мне, что пишет их тот самый нарочито картинно одетый мальчик, с которым я стоял ночью на Симеоновском, и видел, как он сквозь зубы плюет на черный бархат реки, стиснутой гранитом.
А вот как описывает встречи с Есениным в 1917 году (Есенину 23 года) супруга Алексея Толстого[45] Наталья Крандиевская-Толстая[46]:
– У нас гости в столовой, – сказал Толстой, заглянув в мою комнату. – Клюев привел Есенина. Выйди, познакомься. Он занятный.
Я вышла в столовую. Поэты пили чай. Клюев, в поддевке, с волосами, разделенными на пробор, с женскими плечами, благостный и сдобный, похож был на церковного старосту. Принимая от меня чашку с чаем, он помянул про великий пост. Отпихнул ветчину и масло. Чай пил «по-поповски», накрошив в него яблоко. Напившись, перевернул чашку, перекрестился на этюд Сарьяна и принялся читать нараспев вполне доброкачественные стихи. Временами, однако, чересчур фольклорное какое-нибудь словечко заставляло насторожиться. Озадачил меня также его мизинец с длинным, хорошо отполированным ногтем.
Второй гость, похожий на подростка, скромно покашливал. В голубой косоворотке, миловидный, льняные волосы уложены бабочкой на лбу. С первого взгляда – фабричный паренек, мастеровой. Это и был Есенин.
На столе стояли вербы. Есенин взял темно-красный прутик из вазы.
– Что мышата на жердочке, – сказал он вдруг и улыбнулся.
Мне понравилось, как он это сказал, понравился юмор, блеснувший в озорных глазах, и все в нем вдруг понравилось. Стало ясно, что за простоватой его внешностью светится что-то совсем не простое и не обычное.
Сергей Есенин и Николай Клюев. Петроград. 1915–1916 гг.
Крутя вербный прутик в руках, он прочел первое свое стихотворение, потом второе, потом третье. Он читал много в тот вечер. Мы были взволнованы стихами, и не знаю, как это случилось, но в благодарном порыве, прощаясь, я поцеловала его в лоб, прямо в льняную бабочку, ставшую вдруг такою же милою мне, как и все в его облике.
В передней, по-мальчишески качая мою руку в последнем рукопожатии, Есенин сказал:
– Я к вам опять приду. Ладно?
– Приходите, – откликнулась я.
Как видите, описание сходно, но там, где Горький видит открыточную слащавость, Наталья Васильевна подмечает нежность, необычность и чувство юмора.
– Русый, кудреватый, голубоглазый, с задорным носом. Ему бы холщовую рубашку с красными латками, перепояску с медным гребешком и в семик плясать с девками в березовой роще… Есенину присущ этот стародавний, порожденный на берегах туманных тихих рек, в зеленом шуме лесов, в травяных просторах степей, этот певучий дар славянской души, мечтательной, беспечной, таинственно-взволнованной голосами природы… – вносит свою лепту в описание поэта Алексей Толстой.
– 1920 год. Осень. «Суд над имажинистами». Большой зал консерватории. Холодно и нетоплено, – рассказывает о своей первой встрече с поэтом, к слову, не менее роковой, чем у Дункан, Галина Бениславская. – Зал молодой, оживленный. Хохочут, спорят и переругиваются из-за мест (места ненумерованные, кто какое займет). Нас целая компания. Пришли потому, что сам Брюсов председатель. А я и Яна – еще и голос Шершеневича[47] послушать, очень нам нравился тогда его голос. Уселись в первом ряду. Но так как я опоздала и место, занятое для меня, захватили, добываю где-то стул и смело ставлю спереди слева, перед креслами первого ряда.
Наконец на эстраду выходят. Подсудимые садятся слева группой в пять человек. Шершеневич, Мариенгоф и еще кто-то.
Почти сразу же чувствую на себе чей-то любопытный, чуть лукавый взгляд. Вот ведь нахал какой, добро бы Шершеневич – у того хоть такая заслуга, как его голос. А этот мальчишка, поэтишка какой-нибудь. С возмущением сажусь вполоборота, говорю Яне: «Вот нахал какой».
Суд начинается. Выступают от разных групп: неоклассики, акмеисты, символисты – им же имя легион. Подсудимые переговариваются, что-то жуют, смеются. (Я на ухо Яне сообщила, что жуют кокаин; я тогда не знала, что его – нюхают или жуют.) В их группе Шершеневич, Мариенгоф,
Грузинов[48], Есенин и их «защитник» – Федор Жиц[49]. Слово предоставляется подсудимым. Кто и что говорил – не помню, даже скучно стало. Вдруг выходит тот самый мальчишка: короткая нараспашку оленья куртка, руки в карманах брюк, совершенно золотые волосы, как живые. Слегка откинув назад голову и стан, начинает читать.
Плюйся, ветер, охапками листьев,
Я такой же, как ты, хулиган.
Он весь стихия, озорная, непокорная, безудержная стихия, не только в стихах, а в каждом движении, отражающем движение стиха. Гибкий, буйный, как ветер, о котором он говорит, да нет, что ветер, ветру бы у Есенина призанять удали. Где он, где его стихи и где его буйная удаль – разве можно отделить. Все это слилось в безудержную стремительность, и захватывают, пожалуй, не так стихи, как эта стихийность.
Думается, это порыв ветра такой с дождем, когда капли не падают на землю и они не могут и даже не успевают упасть.
Или это упавшие желтые осенние листья, которые нетерпеливой рукой треплет ветер, и они не могут остановиться и кружатся в водовороте.
Или это пламенем костра играет ветер, и треплет, и рвет его в лохмотья, и беспощадно треплет самые лохмотья.
Или это рожь перед бурей, когда под вихрем она уже не пригибается к земле, а вот-вот, кажется, сорвется с корня и понесется неведомо куда.
Нет. Это Есенин читает «Плюйся, ветер, охапками листьев…». Но это не ураган, безобразно сокрушающий дерепья, дома и все, что попадается на пути. Нет. Это именно озорной, непокорный ветер, это стихия не ужасающая, а захватывающая. И в том, кто слушает, невольно просыпается та же стихия, и невольно хочется за ним повторять с той же удалью: «Я такой же, как ты, хулиган».
Ознакомительная версия.