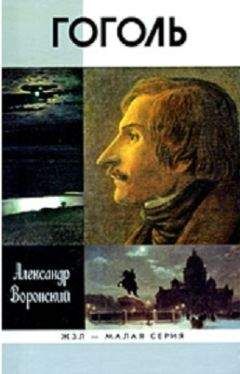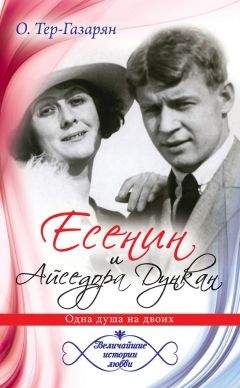Ознакомительная версия.
– Я об этом не подумала, – засмеялась Айседора и, быстро дописав фразу: «А в случае его смерти моим наследником является мой брат Августин Дункан», поставила внизу странички свою размашистую подпись, под которой Ирма Дункан и я подписались в качестве свидетелей.
Наконец супруги Дункан-Есенины сели в самолет, и он, оглушив нас воем мотора, двинулся по полю. Вдруг в окне (там были большие окна) показалось бледное и встревоженное лицо Есенина, он стучал кулаком по стеклу. Оказалось, забыли корзину с лимонами. Я бросился к машине, но шофер уже бежал мне навстречу. Схватив корзинку, я помчался за самолетом, медленно ковылявшим по неровному полю, догнал его и, вбежав под крыло, передал корзину в окно, опущенное Есениным.
Легонький самолет быстро пробежал по аэродрому, отделился от земли и вскоре превратился в небольшой темный силуэтик на сверкающем голубизной небе.
Сергей Есенин и Айседора Дункан. Венеция, Лидо. 14 августа, 1922 г.
Как привыкла путешествовать Айседора? С чемоданом книг, часть из которых была по философии, часть – поэзией. Надоело чтение, всегда можно поболтать с кем-нибудь, умная и общительная, танцовщица могла найти общий язык с самыми разными людьми – от знаменитого боксера до философа, религиозного деятеля или обычного продавца. Прекрасный слушатель и весьма эрудированный человек, она чувствовала себя достаточно свободно везде, где говорили на английском, немецком и французском языках. А как путешествовал Есенин?
В более чем неспешных советских поездах он обычно пил в компании друзей-поэтов, глядя в окно, распевая от скуки песни и подолгу беседуя о житье-бытье и трудном деле книгоиздания в России. Вот, к примеру, из письма Сергей Александровича А. Мариенгофу (апрель – май 1921 года):
Милый Толя! Привет тебе и целование. Сейчас сижу в вагоне, и ровно третий день смотрю из окна на проклятую Самару, и не пойму никак, действительно ли я ощущаю все это или читаю «Мертвые души» с «Ревизором». Гришка (Г. Р. Колобов) пьян и уверяет своего знакомого, что он написал «Юрия Милославского», что все политические тузы – его приятели, что у него все курьеры, курьеры и курьеры. Лева (помощник Г. Р. Колобова) сидит хмурый и спрашивает меня чуть ли не по пяти раз в день о том, съел ли бы я сейчас тарелку борща малороссийского? Мне вспоминается сейчас твоя кислая морда, когда ты говорил о селедках. Если хочешь представить меня, то съешь кусочек и посмотри на себя в зеркало.
Еду я, конечно, ничего, не без настроения все-таки, даже рад, что плюнул на эту проклятую Москву. Я сейчас собираю себя и гляжу внутрь. Последнее происшествие меня таки сильно ошеломило. Больше, конечно, так пить я уже не буду, а сегодня, например, даже совсем отказался, чтоб посмотреть на пьяного Гришку. Боже мой, какая это гадость, а я, вероятно, еще хуже бывал.
Климат здесь почему-то в этот год холоднее, чем у нас. Кой-где даже есть еще снег! Так что голым я пока не хожу и сплю, покрываясь шубой. Провизии здесь, конечно, до того много, что я невольно спрашиваю в свою очередь Леву:
– А ты, Лева, ел бы сейчас колбасу?
Вот так сутки, другие, третьи, четвертые, пятые, шестые едем, едем, а оглянешься в окно: как заколдованное место – проклятая Самара.
…Сегодня с тоски, то есть с радости, вышел на платформу, подхожу к стенной газете и зрю, как самарское лито кроет имажинистов. Я даже не думал, что мы здесь в такой моде. От неожиданности у меня в руках даже палка выросла, но за это, мой друг, тебя надо бить по морде.
Глава 11. Мозаичный портрет
– Лицо у него было задумчивое, глаза чуть припухшие, и было такое впечатление, словно он работал всю ночь, – крупными мазками пишет портрет Есенина Всеволод Иванов[43]. – Наверное, так оно и было. Гонимый какой-то страстью, он ходил по знакомым из квартиры в квартиру всю ночь, читал стихи, пил, напивался, возвращался на рассвете, и в то же время сознание, как ни странно, не переставало работать. Много раз я был свидетелем, как он на краешке стола своим ровным почерком, точно вспоминая, без особой устали, точно давно известное, записывал свои стихи. Записав стихотворение, он читал его иногда два-три раза подряд, как бы сам удивляясь самому себе.
– Много написали и наговорили о Есенине – и творил-то он пьяным, и стихи лились будто бы из-под его пера без помарок, без труда и раздумий… – перебивает Иванова Илья Шнейдер.
Все это неверно. Никогда, ни одного стихотворения в нетрезвом виде Есенин не написал.
Он трудился над стихом много, но это не значит, что мучительно долго писал, черкал и перечеркивал строки. Бывало и так, но чаще он долго вынашивал стихотворение, вернее, не стихи, а самую мысль. И в голове же стихи складывались в почти законченную форму. Поэтому, наверно, так легко и ложились они потом на бумагу.
Я не помню точно его слов, сказанных по этому поводу, но смысл их был таким: «Пишу, говорят, без помарок… Бывают и помарки. А пишу не пером. Пером только отделываю потом…».
Так что и здесь мнения расходятся. Полагаю, всякое бывало. К сожалению, Айседора, так и не успела закончить свои мемуары, не успела рассказать о Есенине. Вот и приходится собирать его портрет по кусочкам, крохотным фрагментам воспоминаний, разноцветным стеклышкам мозаики…
О внешности Сергея Есенина и Айседоры Дункан, точнее о перемене во внешнем образе, взрослении и манере держать себя, блистательно рассказывает Максим Горький. Его воспоминания особенно ценны для нас уже и тем, что писатель не ограничивается обычным бытоописанием, а придает произведению яркую эмоциональную окраску. Особенно это относится к описанию Айседоры Дункан, которую он терпеть не мог. И которую считал недостойной такого гения, как Сергей Александрович: «Дункан являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно». Для нас это важно, так как подобную характеристику этим двоим в России давали многие, невольно сравнивая одиозную пару, что не могло не давить главным образом на Сергея Есенина, который, в отличие от Дункан, понимал каждое слово и не мог не обижаться за любимую женщину. Но давайте же послушаем, что скажет нам сам Максим Горький:
…Впервые я увидал Есенина в Петербурге в 1914 году[44], где-то встретил его вместе с Клюевым. Он показался мне мальчиком пятнадцати – семнадцати лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напомнил слащавенькие открытки Самокиш-Судковской, изображавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом. Было лето, душная ночь, мы трое шли сначала по Бассейной, потом через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в черную воду Не помню, о чем говорили, вероятно, о войне: она уже началась. Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге.
Ознакомительная версия.