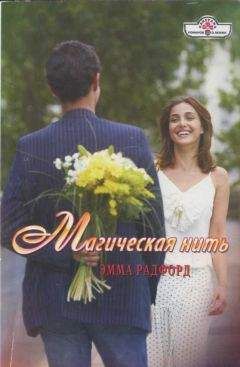Нам не требуется взбираться так высоко, чтобы подняться к пастухам; возможно, пастухом был один из моих предков, от которого я многое унаследовал. Однако думаю, что своим пристрастием к той атмосфере на склоне холма обязан скорее влиянию Джона Тодда. Он оживил ее для меня так, как может оживить все художник. Благодаря ему простая стратегия собирания овец буранным вечером в круг с помощью быстро носящегося, ревностного, лохматого адъютанта было делом, на которое я никогда не уставал смотреть и которое никогда не устану вспоминать: на холмах сгущаются сумерки, непроглядные черные кляксы снега сеются там и сям, и кажется, что ночь уже наступила, кучи желтых овец и стремительное беганье собак по снегу, хватающий за горло морозный воздух, неземное пение ветра над болотами, и посреди всего этого поднимающийся по склону Джон, глядящий властным взглядом по сторонам, то и дело издающий зычный рев, от которого вечер кажется еще холоднее. Вот таким я до сих пор вижу его мысленным взором на холме неподалеку от Холкерсайда, грациозно размахивающим посохом, его громкий голос оглашает холмы и наводит ужас на низины, а я стою чуть позади, пока он не утихнет, и мой друг, сунув понюшку табаку в ноздри, перейдет к негромкому, непринужденному разговору.
Те, кто старается писать хорошо, время от времени забираются в кладовую памяти, перестраивают небольшие, красочные воспоминания о местах и людях так и эдак, рядя (возможно) какого-нибудь близкого друга в одежды пирата, приказывают армиям начать маневры или произойти убийству на площадке для игр своего детства. Но воспоминания — волшебный дар, не скудеющий от пользования. Яркие картинки прошлого, сослужив службу в десятке различных сюжетов, по-прежнему сияют перед мысленным взором, ни единая черта их не стерта, ни единый оттенок не потускнел. Gluck und ungliick wird gesang[11], если угодно Гете, однако после бесчисленных перевоплощений оригинал вновь становится самим собой. И со временем писатель начинает удивляться неизгладимости этих впечатлений, возможно, начинает предполагать, что искажает их, вплетая в вымышленные сюжеты, и, оглядываясь на них со все возрастающей нежностью, возвращает в конце концов эти стойкие драгоценные камни в их собственную оправу.
Кажется, я изгнал несколько этих приятных видений. Совсем недавно я использовал одно: крохотный островок из плотного речного песка, где некогда пробирался в зарослях белокопытника, с радостью слыша пение реки по обе стороны и убеждая себя, что в самом деле наконец очутился на острове. Двое моих персонажей лежат там летним днем, прислушиваясь к стригалям за работой в приречных полях и к барабанам в старом, сером гарнизоне на ближнем холме. И думаю, сделано это было должным образом: данное место было должным образом заселено и принадлежит теперь не мне, а моим персонажам, во всяком случае на какое-то время. Возможно, со временем персонажи потускнеют; как всегда, мгновенно всплывет исконное воспоминание; и я вновь буду, лежа в постели, видеть песчаный островок в реке Аллан-Уотер таким, какой он на самом деле, а ребенка (которым был некогда я) — идущим там сквозь заросли белокопытника; и удивляться мгновенности и девственной свежести этого воспоминаниями снова, к месту и не к месту, у меня будет возникать желание вплести его в сюжет.
В моей кладовой есть еще один островок, память о котором не дает мне покоя. В одном из своих сюжетов я поместил туда целую семью, а потом героя другого сюжета, выброшенного на берег и обреченного мокнуть под дождем на беспорядочно разбросанных валунах и питаться моллюсками. Чернила еще не успели поблекнуть, я еще мысленно слышу звучание фраз, и меня не оставляет желание еще раз написать об этом острове.
Островок Иррейд лежит неподалеку от юго-западного угла Росс-оф-Мулла: по одну сторону пролив, за которым виден остров Иона с церковью Колумба, по другую — открытое море, где в ясный прибойный день видны белопенные буруны на множестве подводных скал. Я впервые увидел его (или впервые сохранил память об этом) в круглом иллюминаторе каюты, море у его берегов было гладким, словно воды озера, в бесцветном, ясном свете раннего утра были хорошо видны его поросшие вереском и усеянные валунами холмы. В те дни там стоял единственный, грубо сложенный из камней без раствора дом, к нему подходил пирс из обломков разбившихся судов. Видимо, было еще очень рано, а летом на той широте почти не темнеет, но даже в этот час из трубы над домом поднимался приятный торфяной дым, долетавший до нас через бухту, и босоногие дочери хозяина шлепали по воде у пирса. В тот день мы отправились к острову на шлюпках, вошли в Фиддлерз-Хоул, подавая на ходу сигналы, и со всеми возможными удобствами расположились лагерем на берегу северного залива. Пароход маячной службы не случайно встал на якорь в бухте Иррейда. В пятнадцати милях от островка в открытом море торчала черная, окруженная бурунами скала, аванпост Торренских рифов. Там нужно было возводить маяк. Но поскольку скала была маленькой, с трудным подходом, далекой от земли, работа растянулась бы на годы, и мой отец искал место на острове, где можно было бы добывать и обделывать камень, люди могли бы жить, а судно в относительной безопасности стоять на якоре.
В следующий раз я увидел Иррейд с кормовой банки ионского люгера, мы с Сэмом Боу сидели там бок о бок, поставив ноги на свои вещи, в начале прекрасного северного лета. И вот на тебе! Теперь там был каменный пирс, ряды сараев, рельсовые пути, передвижные подъемные краны, улица коттеджей, железный дом для прораба, деревянные домики для рабочих, площадка, где стояли экспериментальные макеты башни, а за поселком — громадный разрез в склоне холма, где добывали гранит. Пароход стоял в бухте на двух якорях. Весь день напролет это место оглашалось звенящей музыкой рабочих инструментов; и даже глубокой ночью сторож ходил с фонарем туда-сюда по поселку и мог дать прикурить любому полуночнику.
Особенно странно было видеть Иррейд в воскресенье, когда звон инструментов прекращался и воцарялась хрупкая тишина. Вокруг зеленого лагеря люди в лучшей, воскресной одежде неторопливо прогуливались расслабленной походкой отдыхающих тружеников, задумчиво курили, разговаривали негромко, словно чтя тишину, или прислушивались к стенанию чаек. И странно было видеть воскресные службы, проходившие в одном из домов, мистер Бребнер читал, сидя за столом, а прихожане сидели на двухъярусных койках; слышать пение псалмов, «глав», неизменную проповедь Сперджена и старую выразительную маячную молитву.
В хорошую погоду, когда из подзорной трубы со склона холма было видно, что волнения у рифов нет, еще затемно слышался шум приготовлений, и еще до того как солнце выходило из-за Бен-Мора, пароход выходил из бухты. И плыл по громадным голубым атлантическим волнам пятнадцать морских миль, таща за собой качающиеся на волнах лихтеры с камнями. С обоих бортов простирался открытый океан, а материковые холмы начинали уменьшаться на горизонте еще до того, как пароход подходил к своему непривлекательному месту назначения и наконец ложился в дрейф там, где скала вздымала над зыбью черную голову с высоким железным бараком на паучьих ножках, башней без вершины, работающими кранами, и дым топки поднимался из трубы посреди моря. Этот опасный риф называется Дху Хартак, там нет приятных уступов, заводей, ручьев, где ребенку не надоело бы играть все лето, как на Белл-Роке или Скерриворе, а лишь овальный черный холм, скупо обрызганный неприметным фукусом, в каждой его расселине кишели какие-то серые насекомые, похожие и на мокриц, и на жуков. Никакой другой жизни там не было, кроме морских птиц и самого моря, течение несется, как в мельничном лотке, и ревет извечно вокруг дальних рифов даже в самую тихую погоду, с грохотом хлещет о саму скалу. Совсем иначе бывало на Дху Хартаке, когда дул сильный ветер, наступала темная ночь, огни соседних маяков на Скерриворе и Рхувале тонули в тумане, и люди безвылазно сидели в своем железном барабане, гудевшем от хлещущих брызг. Вместе с ними в осажденном морем убежище сидел страх; и цвет обеспокоенных лиц менялся, когда особенно большая волна ударяла в барак, и от удара дрожали его опоры. Тогда десятник, мистер Гудвилл, которого я до сих пор вижу мысленным взором в неописуемо рваной рабочей одежде, брал скрипку и начинал исполнять человеческую музыку среди музыки шторма. Но я видел Дху Хартак только при солнечном свете, и при солнечном свете, на еще более прекрасном летнем закате, пароход возвращался к Иррейду, бороздя волшебное море, послушные лихтеры, освобожденные от груза, плыли в кильватерной струе; и когда пароход поднимался на длинной волне, рулевой на каждом виднелся темным силуэтом на фоне сияющего запада.