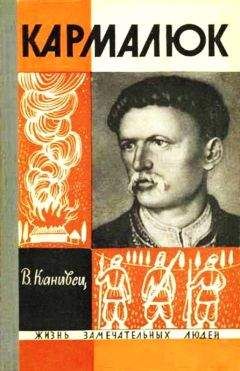Я не хотел бы, однако, чтобы из этих слов читатели этих записок вывели преувеличенное представление о степени моего «разумения» в то время. Увы! эти легендарные образы, несмотря на весь свой трагический смысл, говорили пока моему сознанию не более, чем те чудовищно-фантастические сказки, которые я раньше выслушивал от своих нянек с таким трепещущим от ужаса любопытством: реальный смысл их был еще для меня недоступен. Несомненно, однако, что все это, полусознаваемое мною, складывалось на глубине моей души, неощутимо для меня формируясь в то сокровенное «святая святых», которое носит в своей груди каждое человеческое существо и с которым уходит в могилу.
А пока… пока властные стихии жизни продолжали ткать таинственную паутину.
Прошло полтора-два месяца, как наши оживленные общие завтраки и обеды благодаря каким-то хозяйственным неудобствам (кажется, просто по непрактичности дяди и чересчур уже очевидной недобросовестности кухарки) должны были прекратиться, а затем все реже стали собираться и на наши интимные «литературные» вечера, так как и сам дядя стал все чаще уходить по вечерам из дома. Иногда он брал меня с собой в те семейные дома, где были мои сверстники, но чаще я оставался дома один, в сообществе прислуги, которая, пользуясь отсутствием дяди, устраивала у себя на кухне настоящие журфиксы с гимназическими сторожами. Начало сбываться то, что предсказывала моя матушка и перед чем действительно спасовал дядя: он был слишком молод, слишком сам еще хотел жить всеми «впечатлениями бытия», чтобы создать для меня подходящую обстановку, пожертвовав для моего воспитания всем своим молодым досугом. Сделать это он, конечно, был не в силах. Занявшись со мною час-полтора, он забрасывал меня «самыми интересными», по его мнению, книгами и затем оставлял одного, вполне уверенный, повидимому, что для меня было вполне достаточно того уже благотворного влияния, которое, по его мнению, должна была иметь на меня общая атмосфера «новой» гимназии. Но он ошибался. Меня, привыкшего к уюту семейной жизни и свободному раздолью ребячьей улицы, раздражала обстановка номерной жизни, я с каждым днем становился нервнее и недовольнее, во мне все сильнее росло чувство неудовлетворенности, которое было тем тяжелее, что оно было неопределенно и неуловимо. Я уже был накануне того критического переходного от отрочества к юношеству периода жизни, когда молодая натура бывает полна неясными, полусознанными, туманными и тем не менее необыкновенно властными порываниями и стремлениями, требующими того или иного исхода. В одиночестве такой исход бывает особенно роковым. Я был положительно окутан туманом неопределенных стремлений и искал и не видел для них исхода. Меня то охватывали религиозно-идеалистические экзальтации: я решал «отречься от всего», уйти в келью, в монастырь и здесь посвятить себя «подвигу» или взять на себя какой-то «крест» и пуститься странствовать по святым местам, по далеким стогнам и весям, то вдруг вспыхивала во мне неудержимая страсть к «греховной» жизни, и я, весь пылая внутренно от стыда, припадал ухом к перегородке, жадно вслушиваясь в хихикающий шепот кухарки с ее кумом; то, наконец, подавленный всем ужасом греховности и низменности своих помышлений, я страстно искал спасения в создании в своем воображении идеально-чистого, «святого» образа девушки, при которой даже самая тень чего-либо «плотского» не могла быть терпима. Я был беспомощен. Дядя, повидимому, и не подозревал ничего подобного: ведь он дал мне для утешения такие интересные книги. Помню, между прочим, особенно рекомендовавшиеся в то время для детей «Детские годы Багрова-внука» Аксакова, «Рассказы из русской истории» Ишимовой и т. п. Да, книги были действительно интересны, но это был внешний интерес для меня; они не могли ответить таинственным процессам моей души, как отвечала когда-то ласка матери, ее мистически-религиозные мечты и рассказы, фантастическая сказка няни, как отвечали еще недавно хотя и не во всем понятные для меня, но все же увлекающие, оживленные беседы у нас молодежи и те полутаинственные, полные трагического смысла легенды, к которым я прислушивался с такою жадностью… Нет, забитый схоластикой, мой ум не умел еще искать и находить в книге духовного друга, да и не подозрезал о возможности этого. Новые товарищи? Но я не успел еще сойтись с ними, встретить среди них близкую по душе натуру. А дядя ничего не знал этого и не замечал, по крайней мере вначале, просто потому, что он сам весь был охвачен в этот момент тоже таинственной неопределенной мечтой, теми же властными стремлениями найти исход своим душевным томлениям в интимной ласке близкого друга, в слиянии с единочувствующей душой… Проще сказать, дядя был влюблен.
Как-то незадолго до рождественских каникул дядя вернулся вечером особенно оживленным и веселым. Он вынул из бокового кармана фотографическую карточку и, вставив в рамку, поставил на письменный стол: это был портрет не особенно красивой, но с замечательно симпатичным лицом барышни.
– Коляка! – сказал он весело. – Это моя будущая невеста… Нравится тебе?
Я вспыхнул, как зарево. Вот лицо идеально-чистой, духовно-прекрасной девушки, при виде которой всякая грубая греховная мысль была бы преступна! Я уже вперед «обожал» ее. Меня как-то внезапно озарила, как молния, мысль, что, если бы я мог видеть и знать, как дядя, такое идеально-чистое существо и «обожать» его, я воскрес бы, и густой туман терзавших меня неопределенных стремлений рассеялся бы, как перед лучами солнца.
– А вы, дядя, познакомите меня с нею? – робко спросил я.
– Ну, конечно, не теперь только… После рождества разве…
– Это вы все к ней ходили?..
– Да… Влюблен, Коляка, влюблен… Да такую душу нельзя не полюбить! – восторженно сказал он, похлопывая меня по спине. – Вот ты узнаешь после… А ты мне не нравишься, – прибавил он, всматриваясь в мое лицо, – ты худеешь, стал вялым… да и занятия твои идут неважно… Я уже давно стал замечать… Да, конечно, я виноват, кругом виноват… Оставил тебя без любви, без ласки… Этого ничто не может заменить…
И настроение дяди, как всегда, быстро изменилось на мрачное и печальное.
– Надо ехать… домой, к своим, – сказал он после долгого молчания и глубоко вздохнул. – Я прежде думал, что мы останемся здесь… Весело проведем праздники вместе… с тобой и друзьями… Нет, надо ехать… Там начались хорошие дела… И для тебя надо ехать… Ты оживешь у своих… А там посмотрим.
Через неделю я ехал опять на родину… чтобы уже никогда не вернуться сюда обратно.
Этот промелькнувший в моей юношеской жизни короткий эпизод, смутный в общем, запечатлелся в моей душе некоторыми отдельными моментами: так остаются дорогими и памятными навсегда моменты зарождения в душе первых чистых и возвышенных представлений. Здесь впервые в мою душу были брошены семена той «второй легенды» – о высокой миссии писательства, которая, неощутимо и несознаваемо еще мною, духовно пленила меня.