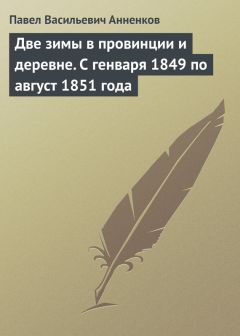Скажите: экой вздор! иль bravo!
Иль не скажите ничего —
Я в том стою: имел я право
Избрать соседа моего
В герои повести смиренной,
Хоть малый он обыкновенный,
Не второклассный Дон-Жуан,
Не демон, даже не цыган,
А просто гражданин столичный,
Каких встречаем всюду тьму,
Ни по лицу, ни по уму,
От нашей братьи не отличный.
В бумагах есть еще одна недоконченная строфа с исторической картиной, столь же яркой, как и другие этого рода, заключающиеся в «Родословной».
Во время смуты безначальной,
Когда то лях, то гордый швед
Одолевал наш край печальный
И гибла Русь от разных бед,
Когда в Москве сидели воры,
А с крулем вел переговоры
Предатель хитрый Салтыков,
И средь озлобленных врагов
Посольство русское гладало,
И за отчизну стал один
Нижегородский мещанин,
В те дни Езерский…
Наконец, несколько строф, набросанных карандашом, представляют много отдельных фраз, но выписка их потребовала бы еще объяснений, которые так легко переходят в произвольные толкования и от которых поэтому удерживаемся.
Сообразив все сказанное, читатель легко соединит в уме своем отрывок, известный под именем «Родословная моего героя», с поэмой «Медный всадник». Нет сомнения, что пополненные таким образом один другим, оба произведения представляются воображению в особенной целости, которой теперь им недостает. Из соединения их возникает идея об обширной поэме, имеющей уже очертания и сущность настоящей эпопеи.
Религиозное настроение духа в Пушкине начинает проявляться особенно с 1833 года теми превосходными песнями, основание которым положило стихотворение «Странник», написанное летом того же года, как знаем. Стихотворение это, составляющее поэму само по себе, открывает то глубокое духовное начало, которое уже проникло собой мысль поэта, возвысив ее до образов, принадлежащих, по характеру своему, образам чисто эпическим. Что это не было в Пушкине отдельной поэтической вспышкой, свидетельствуют многие последующие его стихотворения, как «Молитва», «Подражание итальянскому» и несколько еще неизданных. Лучшим доказательством постоянного, определенного направления служат опять рукописи поэта. В них мы находим, что он прилежно изучал повествования «Четьи-Минеи» и «Пролога» как в форме, так и в духе их. Между прочим, он выписал из последнего благочестивое сказание, имеющее сильное сходство с самой пьесой «Странник». Осмеливаемся привести его здесь:
«Вложи (диавол) убо ему мысль о родителях, яко жалостию сокрушатися сердцу его, воспоминающи велию отца и матере любовь, юже к нему имеша. И глаголаше ему помысл: что ныне творят родители твои без тебя, колико многую имут скорбь и тугу и плачь о тебе, яко неведающим им отшел еси. Отец плачет, мать рыдает, братия сетуют, сродницы и ближний жалеют по тебе и весь дом отца твоего в печали есть, тебе ради. Еже воспоминаше ему лукавый богатство и славу родителей, и честь братии его, и различная мирская суетствия во ум его привождаше. День же и нощь непрестанно таковыми помыслами смущаше его яко уже изнемощи ему телом, и еле живу быти. Ово бо от великаго воздержания а иноческих подвигов, ово же от смущения помыслов изеше яко скудель крепость его и плоть его бе яко трость ветром колеблема».
В другой раз Пушкин переложил на простой язык, доступный всякому человеку, даже весьма мало искушенному в грамоте, повествование «Пролога» о житии преподобного Саввы Игумена. Записка эта сохраняется в его бумагах под следующим заглавием: «Декабря 3, преставление преподобного отца нашего Саввы, игумена святые обители пресвятой богородицы, что на Сторожех, нового чудотворца (Из Пролога)». В 1835 году он участвовал и советом и, если не ошибаемся, самим делом в составлении «Словаря исторического о святых, прославленных в российской церкви», который предпринял тоже один из бывших лицейских воспитанников. Когда вышла книга (в 1836 году), он отдал отчет об ней в своем журнале «Современник», где удивляется, между прочим, людям, часто не имеющим понятия о жизни того святого, имя которого носят от купели до могилы. Все эти свидетельства совершенно сходятся с показаниями друзей поэта, утверждающих, что в последнее время он находил неистощимое наслаждение в чтении Евангелия и многие молитвы, казавшиеся ему наиболее исполненными высокой поэзии, заучивал наизусть.
Легендарная поэзия Запада сама собой должна была обратить его внимание, потому что всякий предмет, представившийся его уму, Пушкин любил осматривать со всех сторон. Конечно, в ней изучал он не романтический элемент, уже исчерпанный до него Жуковским, а преимущественно способ создания картин и представлений религиозного содержания. Это оказывается из выбора, который он сделал между многочисленными образцами, какие были у него под рукой. Он перевел старый испанский романс «Родриг» («На Испанию родную…») и другой – «Жил на свете рыцарь бедный…», помещенный посмертным изданием в так называемых «Сценах из рыцарских времен» [241] . Вообще всякого рода изучение отражалось в фантазии Пушкина поэтическим представлением или картиной: это свойство его природы не терялось никогда, даже, как уже мы видели, при исторических и ученых изысканиях. Тем менее могло оно измениться или ослабеть в предмете, столь сильно возбуждающем вообще вдохновение. Таким образом, имеем мы несколько отрывков, ясно свидетельствующих, что пораженное воображение его крепло и приобретало особенную мощь вместе с ходом его направления и по мере того, как он углублялся в него. Вот один из них:
Когда владыка ассирийский
Народы казнию казнил,
И Олоферн весь край азийский
Его деснице покорил,
Высок смиреньем терпеливым
И крепок верой в Бога сил,
Перед сатрапом горделивым
Израиль выи не склонил.
Во все пределы Иудеи
Проникнул трепет… Иереи
Одели вретищем олтарь;
Главу покрыв золой и прахом,
Народ завыл, объятый страхом,
И внял ему Всевышний Царь.
Пришел сатрап к ущельям горным
И зрит: их узкие врата
Замком замкнуты непокорным,
Грозой грозится высота,
И над тесниной торжествуя,
Как муж на страже, в тишине,
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине!
Сатрап смутился. . . .
О других отрывках после, а здесь скажем только, что повествовательная форма сделалась любимой поэтической формой для Пушкина с этого времени и что в ней заключено качество настоящего эпоса: строгая мысль, порожденная двойным вдохновением исторического и религиозного свойства. Пушкин не успел выразить последнее свое направление в одном целом, образцовом создании, но оставил глубокие и многозначительные следы его в отдельных стихотворениях, как мы уже сказали, писанных с 1833 г.: «Странник», «К Н*», «Полководец», «Пир Петра Великого», «М[ицкевичу]», «Подражание итальянскому», «Молитва», «Лицейская годовщина» [242] .