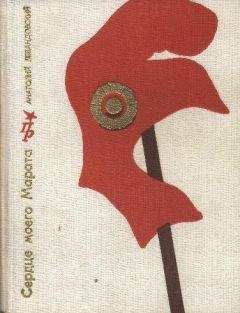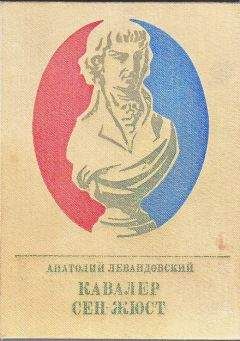Он только ждал, пока плод созреет; он не хотел непредвиденного.
Еще 1 апреля он сказал у Якобинцев:
— Когда час наступит, я дам сигнал!..
В течение апреля — мая он, точно опытный стратег, осуществлял свой план по частям. Он предоставил государственным людям полную возможность запутаться в собственных сетях. Он показал всей Франции существо их политики, их цели и средства. Именно для этого он провел и собственный процесс в Чрезвычайном трибунале — нужно было раскрыть их крапленые карты. Он обеспечил время парижским санкюлотам, чтобы собраться с силами, организовать свой Революционный комитет в Епископстве, создать свои вооруженные отряды.
А потом он подал обещанный сигнал.
31 мая он сам поднялся на башню ратуши и ударил в набат.
И все же, как генерал, уверенный в победе, как вождь, который твердо знает, что последнее слово за ним, в этот день он предоставил поле боя в Конвенте Робеспьеру.
— Ты хотел добиться победы мирными средствами? Что ж, попробуй…
Неподкупный попробовал. Он произнес свою блистательную тираду против Верньо и его сообщников. Он потребовал обвинительного декрета против вожаков Жиронды. Тщетно. Стараниями лукавого Барера, будущего термидорианца, которого Марат в это время уже раскусил совершенно, победа остановилась на полпути. «Мирные средства» не принесли плодов…
И тут Друг народа подал новый сигнал.
Я видел его в день 2 июня, когда весь Париж кишел, точно потревоженный муравейник. Я наблюдал за его коренастой фигурой, появлявшейся то там, то тут. Я слышал, как санкюлоты, чувствуя в нем гения революции и своего страстного защитника, умоляли его:
— Марат, спаси нас!..
Я слышал его знаменитую речь, произнесенную в ратуше, пламенную речь, начинающуюся словами:
— Поднимайся, народ-суверен!..
А потом, в Конвенте, он руководил последним туром борьбы. Он отдавал распоряжения, повелительным тоном указывал, кого внести в проскрипционный список, кого выбросить из него. И никто не подумал спорить. Никому из членов Конвента, этих великих мужей, в числе которых были и Дантон, и Робеспьер, и десятки других, даже в голову не пришло, что можно ослушаться Марата!..
Да, это был его день.
И он закончился так, как должен был закончиться.
Жиронда пала.
Ее лидеры были выведены из состава Конвента и арестованы.
Но, вложив в этот день все свои силы, всю энергию, Марат израсходовал последнее.
И слег — это было неизбежно.
* * *
…Тихо тикают часы.
В доме мир и покой.
Марат неслышно работает в своем необычном кабинете.
Симонна и Жаннетта возятся на кухне.
Гражданка Обен шелестит газетными листами.
Мир и покой.
Я снова берусь за свой дневник и просматриваю предыдущие записи…
* * *
…Первое время больной Марат был очень разговорчив. Никогда еще он столько не говорил со мной, как в эти июньские дни. Никогда, если не считать его исповеди в ночь на 23 января 1790 года…
Он был совершенно не удовлетворен результатами дней 31 мая — 2 июня.
— Ты думаешь, — говорил он мне, — мы завершили революцию? Ошибаешься, мой дорогой. Все меры, принятые до сих пор, были непродуманными, обманчивыми и случайными, если только принимались они с чистыми намерениями. Можешь ты сказать, что уничтожены голод, нищета, анархия, рабство гражданской войны? Я не могу. Каким было положение три года назад, таким оно осталось и сегодня, таким оно останется и впредь, пока небу не будет угодно даровать французам зерно здравого смысла, чтобы положить конец своим бедствиям…
Он считал, что сейчас главное — добиться полного единства между Горой Конвента и санкюлотами. Он требовал этого в своей статье от 8 июня и в своих многочисленных письмах Ассамблее.
Но Конвент не был склонен идти навстречу его призывам.
После 2 июня Конвент повернул назад. Депутаты, напуганные силой народного движения, обнаруживали крайнюю нерешительность. Болото диктовало свои условия Горе. Гора словно застыла в оцепенении. И все отвернулись от человека, который заставил их повиноваться своим приказам в день восстания.
Мало того. Его снова начинали обвинять в стремлении к диктатуре!..
— Дурачье, — возмущался Марат, — они ничего не понимали раньше, они все еще ничего не понимают и сейчас. Они словно не видят, что мне их диктатура нужна так же, как корове седло.
— Но ведь вы всегда проповедовали эту идею в ваших статьях и памфлетах! — напомнил я.
— То было давно, сейчас я на многое смотрю другими глазами.
— И вы не настаиваете больше на триумвирате?
— Триумвират?.. Не смеши меня, мой мальчик. Я очень люблю и уважаю своих товарищей по «триумвирату», по они могут быть носителями неограниченной власти еще меньше, чем я… Робеспьер не предназначен для того, чтобы быть вождем партии: он избегает шума и бледнеет при виде обнаженной сабли! Горе республике, если он когда-либо окажется у власти…
— А Дантон?
— О, этот человек объединяет в себе таланты и энергию — он мог бы многое сделать. Но он не сделает ничего. Его естественные наклонности увлекают его так далеко от какой бы то ни было идеи господства, что он стульчак предпочитает трону…
Мы оба рассмеялись. Потом я спросил:
— Так, значит, вы полностью отказались от идеи диктатуры?
Марат стал серьезным.
— Нет, не отказался. И никогда не откажусь. Без диктатуры мы не сломим врага и никогда не увидим свободы, равенства и счастья. Но сейчас я думаю о диктатуре иначе, чем год назад. Она непосильна для одного человека. Или даже для троих. Диктатура должна быть коллективной. Как ты думаешь, почему я с таким упорством ратовал за организацию Комитета общественного спасения? Я надеялся, что он станет подобным органом коллективной диктатуры и спасет страну от врагов…
Марат тяжело вздохнул.
— К сожалению, вышло не то. В комитете сидят не те люди. Там хозяйничает негодяй Барер, а Дантон пляшет под его дудку. И вот первые результаты: многие государственные люди бежали из-под ареста и поднимают мятежи в департаментах. А Лион?.. Они проморгали Лион, они не спасли от ареста Шалье, хотя я и бился за него… Теперь отвоевать Лион будет очень трудно… А генералы-дворяне, которых они ставят во главе министерства и армии? Они забыли о Лафайете и Дюмурье! Им надо, чтобы Богарне, Кюстин или Бирон раскрыли все свои таланты на поприще измены, тогда они, быть может, опомнятся?.. Да, друг мой, нынешний Комитет общественного спасения можно назвать скорее Комитетом общественной погибели…
Он терзался. Он забрасывал письмами Конвент. Но братья-депутаты не отвечали на его призывы. Трудно поверить, но в середине июня, поднявшись с ложа страданий, он нашел в себе силы отправиться в Конвент, чтобы там с трибуны изложить свою программу действий. Два дня, 17 и 18 июня, превозмогая мучения, он держался на ногах…