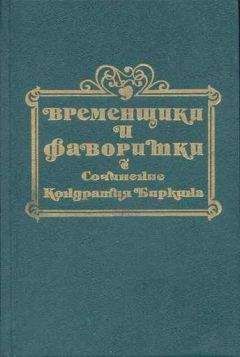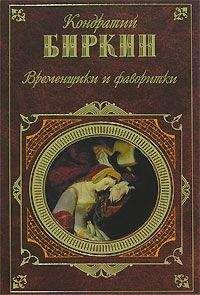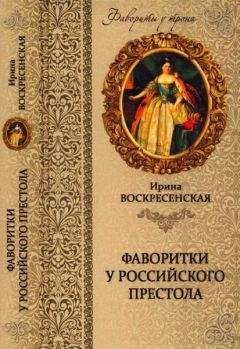Сказав это, королева удалилась, и депутация вышла из дворца к народу с нерадостными вестями.
— Ах вы мошенники! — заревели тысячи голосов. — Так вы заодно с ними нас морочите? Марш опять во дворец — и без помилования Брусселя не возвращаться!
Вторичное посещение депутатами королевских апартаментов увенчалось желанным успехом: дрожащей от бешенства рукой Анна Австрийская соблаговолила подписать приказ об освобождении Брусселя. Племянник арестанта, показав народу этот документ, объявил, что дядя его завтра же к восьми часам будет в Париже.
— Мы подождем, — отвечали коноводы мятежников, — и всю ночь будем дежурить на площадях. Если же и завтра нас обманут, мы разнесем Пале-Руайяль по камешку, а на развалинах повесим Мазарини!
Народ сдержал свое слово — он не спал всю ночь, да и ее величество королева не изволила сомкнуть своих ясных очей: изволили трусить, и не без основания. Мазарини не на шутку заболел расстройством желудка.
На следующее утро к десяти часам Бруссель явился среди восторженного народа: его на руках донесли до собора Богоматери, где был отслужен благодарственный молебен. Указом парламента от 28 августа 1648 года гражданам Парижа приказано было возвратиться к их мирным занятиям, и часа через два тишина водворилась, и все шло прежним порядком.
— Наши парламентские господа, — сказал Мазарини, — похожи на школьников, бросающих камешки пращами (qui frondent):[35] разбегаются, завидя полицейского, а только он уйдет, то сходятся опять. Эта шутка не понравилась парламенту. Утром в день баррикад советник Барилльон, смеясь над Мазарини, импровизировал следующую песенку:
Un vent de Fronde
A souffle ce matin;
Je crois qu'il gronde
Contre le Mazarin!
Un vent de Fronde
A souffle ce matin[36]
Песенка дня через два сделалась народной. Противники Мазарини назвались пращниками или фрондерами (les frondeurs) и носили на шляпах шнурки наподобие пращей… Появились булочные печенья, перчатки, платки, опахала, шарфы a la Fronde. Как не сказать при этом, что французы, единственный народ в мире, умеющий мешать дело с бездельем, искусно сочетая шутку с вопросом государственным и делая из предмета своего обожания чуть не детскую игрушку!
После бунта Париж опротивел королеве. Под предлогом очищения Пале-Руайяля после кори, которой хворали дофин и его брат, королева со всем семейством выехала в Рюэйль, поручив председательство в государственном совете герцогу Орлеанскому. Опасаясь его властолюбия, она вызвала из действующей армии ему в товарищи принца Конде. В то же время желая вознаградить себя за уступку, сделанную народу, Анна приговорила к ссылке маркиза де Шатонефа и к аресту — Шавиньи; первого за участие будто бы в недавних смутах, а второго за его связь со многими членами парламента. Истинной причиной опалы того и другого было нерасположение к ним кардинала. Принц Конде прибыл в Париж 20 сентября, в то самое время, когда парламент ходатайствовал об освобождении Шавиньи и Шатонефа. Президент Бланмениль предлагал применить к Мазарини указ 1617 года, обнародованный вскоре после убиения маршала д'Анкра. В указе этом значилось, что всякому иноземцу воспрещается состоять на государственной службе по части высшей администрации. В отплату за это предложение королева отвечала указом от 4 октября, повелевавшим через 24 часа отдавать под суд каждого арестованного чиновника, как гражданского, так и военного ведомства. Думая этим связать руки парламенту, Анна Австрийская ограничивала собственный свой произвол. Желая оградить своего милейшего Мазарини от дальнейших нападок, королева (как гласит предание) сочеталась с ним тайным браком. После этого временщик стал обходиться с Анной еще непочтительнее прежнего и нередко отвечал посланным на приглашение пожаловать к королеве:
— Ну, что ей там нужно!
О тайном браке Анны и Мазарини до времени знала только ее старая горничная госпожа Бовэ. Эта особа не замедлила воспользоваться доверием королевы, или, лучше сказать, — злоупотребить этим доверием, разыгрывая роль любимицы и вымогая у Анны щедроты и милости. Вот подлинные слова Данжо: «…знатнейшие господа одно время заискивали ее расположения; несмотря на свою старость, безобразие и кривой глаз, она являлась при дворе в блестящих нарядах и пользовалась почетом…» Эта самая госпожа Бовэ была первой любовью юного Людовика XIV; она преподавала ему азбуку той великой науки, которую Овидий изложил в своей знаменитой поэме: Ars amandi. Эта кривая безобразная старуха соблазнила отрока-дофина своими блеклыми прелестями. Хороши были наставники у Людовика XIV, хорош был век, хороша была нравственность французского двора того времени! Почти на глазах у матери, сорокалетней Мессалины, соблазняли ребенка, растлевая его, а она докучала своими нежностями и обезьяньим сластолюбием своему Мазарини! Удивляться ли после этого нравственности Людовика XIV?
Одновременно с бракосочетанием итальянского проходимца и королевы французской на первого сыпались бесчисленные памфлеты и пасквили; кроме тех и других, парижане не скупились на песенки, на которые Мазарини отвечал с ехидной улыбкой:
— Пусть поют; поплатятся! (Us chantent ils payeront!)
Самым острым и ядовитым из всех памфлетов был один, озаглавленный: Прошение трех сословий губернаторства Иль-де-Франс в парижский парламент. Правда, высказанная на страницах этого памфлета, не могла не колоть глаза могучему временщику. Вот что, между прочим, о нем говорилось:
«Он происхождения низкого, уроженец Сицилии, бывший подданный испанского короля; в Риме был лакеем; принимал участие в гнуснейших распутствах; вышел в люди благодаря плутням, интригам и шутовству. Во Франции он начал свою службу шпионом, потом, благодаря влиянию своему на королеву, в течение шести лет стоял во главе правительства к соблазну королевского дома и для посмешища иностранных государств. По его милости подверглись опале, были изгнаны и заточены принцы крови, знатнейшие чиновники, члены парламента, вельможи и вернейшие слуги короля. Он окружил себя изменниками, казнокрадами, нечестивцами и безбожниками; присвоил должность наставника королевского, чтобы образовывать короля на модный лад; развратил двор, введя при нем карточные азартные игры; ниспроверг правосудие, ограбил казну, за три года вперед собрал подати и растратил их. Пересажал в тюрьмы до двадцати трех тысяч человек, из которых в один год умерло пять тысяч. Пожрав до ста двадцати миллионов, он не выдавал жалованья военным, пенсий старым служакам, провианта крепостным гарнизонам… Эти громадные суммы он разделил со своими друзьями, отправил большую часть денег в заграничные банки в виде векселей и драгоценностей».