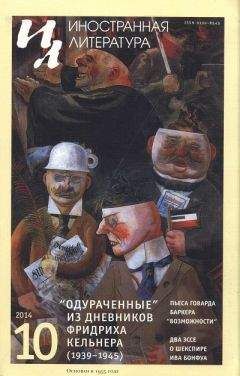После осмотра мы получили наряды. Тем, кто шел в шахту, выдали простейшую одежду; разбили всех на смены: утреннюю, дневную и ночную. Половину суток мы проводили вне лагеря – восемь часов работали, а еще четыре уходило на дорогу туда и обратно. Вымокшие и усталые, мы приползали обратно, наскоро хлебали пустую баланду и заваливались на нары.
К моему удивлению, меня вдруг сделали немецким комендантом. Юппу Линку поручили надзор за работой. Русский комендант даже настоял на том, чтобы я оставался при погонах и при Рыцарском кресте – «знаке высшего отличия». Мне выдали пропуск – разрешение покидать лагерь одному без сопровождения охраны; возвращаться полагалось не позднее десяти вечера. Среди моих обязанностей было и взаимодействие – при содействии Юппа Линка – с главным начальником, возглавлявшим администрацию угольных шахт и являвшимся самым влиятельным человеком в городе. С ним и с его подчиненными обговаривались нормы выработки. И в этом вопросе русская лагерная администрация держалась в сторонке.
Когда этот большой начальник узнал, что в 1941 г. я служил в России, он спросил меня:
– Где именно вы воевали? В какой дивизии?
– На Центральном направлении, в 7-й танковой, мы наступали через Смоленск и Вязьму на Клин и Яхрому, что к северу от Москвы.
– Расскажите-ка мне о Яхроме, – попросил он, – где именно вы там были?
Подобная дотошность меня несколько озадачила, но я ответил:
– В декабре 1941 г. я со своей танково-разведывательной частью наступал через Клин к каналу Москва – Волга, который мы перешли первыми из наших частей в Яхроме, километрах в тридцати или сорока севернее Москвы. Хорошо помню, как мы грелись в маленькой русской гостинице. На столе стоял горячий самовар и нетронутый завтрак, который мы и съели с большим аппетитом.
Взрыв хохота оборвал мой рассказ.
– Так это ж был мой завтрак! Я был тогда полковником резерва, а когда вы так неожиданно атаковали, мне пришлось бежать из Яхромы на голодный желудок. До чего же тесен мир, полковник! Вы тут в плену, а я руковожу городом, в котором оказался в конце войны. Если есть просьбы – готов помочь, хотя, конечно, за вас отвечает комендант лагеря, а я же просто использую как рабочую силу.
После этого разговора нам доводилось встречаться еще много раз.
Моя служба немецким комендантом продолжалась совсем недолго. Сменили русских комендантов. За шесть лагерей в районе Ткибули отвечал полковник Ларош, происходивший из семьи гугенотов, бежавших из Франции в Россию. С ним, однако, у нас почти не было никаких сношений.
Нашим начальником в лагере № 518 стал гвардейский капитан грузин Замхарадзе. Замещал его, как ни странно, русский полковник (и такое бывает в русской армии). Оба были армейскими офицерами, за действиями которых приглядывал НКВД, в том числе и одна очень неприятная сотрудница из Армении.
Замхарадзе вызвал меня и попросил выделить в списке фамилии тех, кто служил офицерами в СС, входил в полицейские подразделения или части, задействовавшиеся для борьбы с партизанами. За службу пообещал усиленное пищевое довольствие и прочие привилегии. Рядом стоял офицер НКВД, смотревший на меня с большим недоверием.
Я ответил коротко:
– Мне не известен в лагере никто, кто служил в подобного рода частях.
Естественно, я знал нескольких из пленных, которые точно служили в СС или же в полиции, а еще нескольких подозревал в этом. Но я держался той точки зрения – и сейчас остаюсь ей верен, – что все немецкие военнопленные должны были рассматриваться как таковые без исключений. Если же на ком-либо и лежала какая-то особая вина, такого человека должен был судить после освобождения немецкий суд. В любом случае, таких людей нельзя было выдавать на расправу русским.
Поскольку я отказался называть чьи бы то ни было фамилии даже после предоставленного мне времени на раздумье, меня из комендантов уволили и вновь вручили должность Юппу Линку. Мне было приказано снять знаки различия и ордена. Одним словом, уравняли – и очень хорошо.
Состояние бараков было отвратительным. Кроме периодических дезинфекций, уничтожения вшей и мытья помещений, не делалось ничего. Мы страдали от тысяч клопов, гнездившихся в нарах и падавших на нас с потолка ночью. Мы набрали в шахте ненужных емкостей и налили в них бензина, с помощью которого пытались ограничить возможность клопов забираться наверх. Раз в несколько недель мы вытаскивали нары наружу и обрабатывали их паяльными лампами, добытыми всеми правдами и неправдами, как тот же бензин. В многолетней борьбе между нами и клопами побеждали последние.
Но более всего мы страдали от скудного питания. 300 граммов хлеба в день, при том официально допускалось, чтобы треть его составляла вода. Некоторые в ярости швыряли свою пайку в стену барака, под которой валялось уже много хлеба. Тощая баланда не содержала ничего питательного, если не считать разваренной крупы или кукурузы. Хлеб и водянистая похлебка являлись основой питания. Иногда нам давали какую-нибудь рыбу. Товарищ по несчастью, Винанд, говорил, что готовил из вываренных голов суп, а кости запекал на второе.
Каких-либо жиров, приправ или витаминов практически не существовало. В результате росла смертность от недоедания. Хотя традиционные для цивилизации болезни практически отсутствовали, почти все пленные страдали от тромбоза в ногах. Попадание тромба в сердце влекло за собой верную смерть. Нередко люди умирали от заворота кишок по причине нехватки жиров. Врачи были практически беспомощны.
Наши немецкие врачи то и дело старались убедить русских комендантов, что, если не улучшить питание, смертность будет расти. Однако поскольку нормы пищевого довольствия устанавливались в Москве, никто ничего изменить не мог. Напротив, нас только больше проклинали из-за того, что мы развязали «империалистическую войну», вследствие которой положение с продовольствием в России стало таким отвратительным.
Еще одной напастью являлась тифоидная лихорадка. Поскольку кончалось это обычно могилой, русские, очень опасавшиеся эпидемий, отправляли больных в строгий изолятор.
Как-то ночью к моей койке подошел молодой лейтенант граф Хоэнлоэ. Он находился в изоляторе как раз по причине лихорадки и в бреду вышел из госпитального барака. Часовой, судя по всему, заснул. Мы тут же сообщили русскому врачу, потому что страшно боялись инфекции. Хоэнлоэ умер через двое суток.
Никому из нас вовек не забыть зрелища трупов в изоляторах, каждое утро сваливаемых на старые телеги для вывоза и погребения силами изможденных военнопленных. Похоронить умерших по-человечески и поставить на могилах кресты нам не позволялось. Несмотря на запрет, мы писали фамилии покойных на огрызках бумаги, однако при проверках у нас их отбирали. Тогда мы придумали, чтобы каждый запоминал одно или два имени умерших, чтобы, в случае если удастся дожить до освобождения, сообщить родственникам.