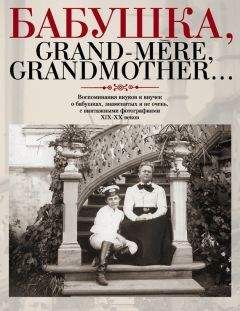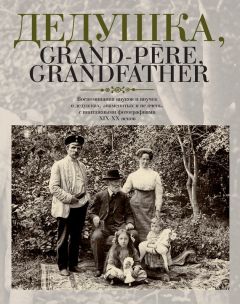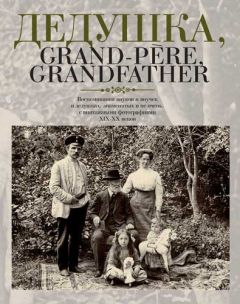Ознакомительная версия.
На большие балы бабушка меня не брала и ограничивалась тем, что привозила мне несколько конфет, как это делают обыкновенно для ребят. Эти конфеты служат как бы соблазном для неопытной молодой души и олицетворяют сладость веселья, которое, как неистощимый бурный поток своим мириадом блестящих брызг, встречает каждого входящего с новыми силами в заколдованный круг большого света. Я всегда порицаю это появление сладостей с балов; мне кажется, что расположение ребенка к сказочному миру, как ему представляется свет, не следует поощрять этим способом, столь привлекательным для его возраста.
Прошла страшно однообразная зима с ее однообразными развлечениями в кругу все тех же лиц, с мелкими интересами личного свойства, столь чуждыми и далекими всех мировых вопросов, где нет мелкого эгоизма и где всякий приносит посильную помощь на пользу нашей меньшой братии. Тот, кто родился богатым, должен получить от природы особенное призвание к какой бы то ни было деятельности, чтобы не праздно жить на свете и не скучать от бездействия.
Настал день 1 апреля – день нашего Ангела, бабушки и мой. Утром, когда мы пили кофе, вошелъ Angelo с большой беленой корзиной, которую он, видимо, нес с трудом, и поставил ее передо мной. Она вся наполнена была свертками разных величин, перевязанными розовыми ленточками, и добрейшая бабушка с улыбкой сказала мне: «Это для тебя, Маша». Горячо поблагодарив ее, я принялась развертывать первый пакет, попавшийся мне под руку. Сняв несколько оберток бумаги, я действовала очень осторожно, предполагая, что вещь, столь тщательно завернутая, должна быть очень хрупка и драгоценна, но когда я дошла до минимальной величины пакетика, каково было мое удивление, когда я вынула из последней бумаги кусочек дерева – просто щепы, годной на подтопку. «Ах, бабушка, вы приготовили мне настоящее 1 апреля!» – засмеялась я и ревностно принялась за другой сверток. Но и другой содержал в покровах белой шелковистой бумаги только небольшой камешек. Я схватила третий сверток – тот же результат. Четвертый, пятый – все то же. По мере того как я опустошала корзину, мои движения делались все быстрее, в уверенности, что вот скоро попадется же мне под руку пакет с подарком. Но вот я беру последний сверток, он более тяжел, чем остальные. «Наконец! Да мне и следовало брать последний, как это я раньше не догадалась?» – пробегает у меня в мыслях, пока мои пальцы нервно работают над покровами, ревниво охраняющими тайну. Ну, вот и последняя бумага сорвана, и – камень остался у меня в руках, камень больше других. Я чуть не заплакала. Бабушка, нежно обняв, повела меня в свою комнату[19].
От двух до шести лет я жила в Пензе с отцом и матерью; это были единственные розовые дни моего детства. <…>
С каким сладостным упоением и как часто переношусь я в Пензу, в наш крошечный, хорошенький, деревянный домик на Большой Московской улице, окруженный запущенным садом. Дом отделялся от улицы густым палисадником, где разрослись на просторе черемуха, сирень и шиповник; ветви их затемняли окна и скрывали улицу, что мне так же не нравилось, как и огород; я любила сидеть на окошке, смотреть на прохожих, следить за всеми происшествиями на улице, по которой в хорошую погоду тонули в песке, а в дурную вязли в грязи и пешеходы, и экипажи, хотя экипажи, в особенности кареты, были тогда редкостью в Пензе, и ни один, бывало, не проедет, не возбудив общего любопытства и различных предположений: как и зачем едут такие-то, почему не заехали туда-то и не случилось ли чего там-то?
Более всех экипажей производила фурор огромная желтая карета бабушки моей Екатерины Васильевны Кожиной (рожденной княжны Долгорукой), запряженная четвернею с двумя лакеями на запятках; один из них растворял с громом дверцы, с треском откидывал ступеньки, а другой раболепно расстилал коврик у подъезда под ноги ее бывшему сиятельству. Бабушка воспитывалась в Смольном монастыре и принадлежала, кажется, к числу воспитанниц первого выпуска; она очень гордилась своим воспитанием и своим происхождением; одним словом, она была вычурна, холодна, почти неприступна, и, хотя, навещая мою мать, она привозила мне карамельки и красные яблоки, я не очень ее любила: она никогда не ласкала меня, – а детей только и привязывает мягкость сердца, которую они предугадывают по чутью. Меня тоже часто возили к бабушке. Как теперь смотрю я на нее: она поздно вставала, почти перед самым обедом, чесалась и мылась в постели; вместо мыла употребляла мякиш черного хлеба; зато кожа у нее была удивительно нежна и тонка. В этой же постели кушала она чай. Живо помню и ее огромный чайный ящик, в котором она тщательно хранила чай, сахар, кофе и даже сухари, но какие это были вкусные сухари! Что за праздник бывало, когда она расщедрится и попотчует меня сухариком; мне кажется, она никогда никому их не предлагала – даже матери моей.
[Анекдоты о скупости Е. В. Кожиной вошли в «Воспоминания» А. М. Фадеева, женатого на ее родной племяннице. «Екатерина Васильевна Кожина, воспитанница Смольного монастыря и бездетная вдова, – женщина умная, но несколько причудливая и неподатливая. Ее состояние было несравненно в лучшем положении, нежели у братьев и матери, но зато расчетливость ее, или даже скупость, составляя отличительную черту ее характера, служила источником многих курьезных анекдотов, вероятно, до сих пор памятных в Пензе. Раз в год, на свои именины, в Екатеринин день, она давала в Пензе бал, на котором не было других конфет, кроме как собранных ею в продолжение целого года на других балах, для чего и носила она всегда огромный ридикюль. На одном из таких ее балов красовался в числе угощения, на подносе с конфетами, большой сахарный рак, который тотчас же был узнан прежним его владельцем, князем Владимиром Сергеевичем Голицыным, так как был прислан ему с другими конфетами, выписанными из Москвы для его бала, за несколько месяцев перед тем. Голицын подошел к подносу, взял своего рака и с торжественным возгласом “Мое – ко мне!” опустил его к себе в карман. Эта проделка, хотя несколько сконфузила хозяйку, но ничуть ее не исправила». С гораздо более теплым чувством поминает Е. В. Кожину волочившийся за нею в дни своей молодости Ф. Ф. Вигель.] Носила она почти всегда белый капот, кругленький батистовый чепчик с такими же завязками, из которых сооружался огромный бант напереди; домашнюю турецкую шаль с мелкими пальмами; в гостях желтую турецкую шаль с крупными пальмами. После обеда она усаживалась на канапе, подогнув под себя ноги, пододвигала старинный столик из разноцветного дерева, с медной решеткой кругом, округленный с боков и вырезанный полукругом напереди, и до самого чая раскладывала grand patience.
Ознакомительная версия.